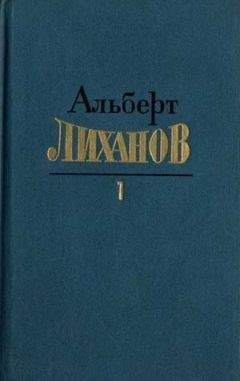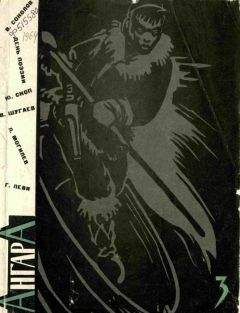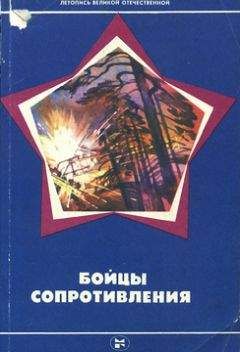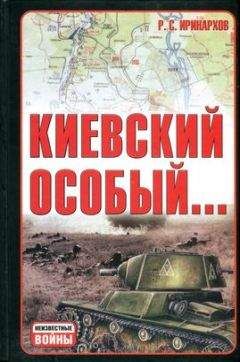Николай Жданов - В окрестностях тайны
И вдруг беспокойная догадка мелькнула в его сознании.
— Позвольте, герр Грейвс, — воскликнул он, — но ведь если эти англичане или американцы охотятся за нашими учеными, значит, они догадываются о чем-то! Больше того, — не кажется ли вам, что для того чтобы заподозрить другого, надо быть грешным самому? Что если они сами уже теперь готовят это оружие?
— Вполне возможно, — спокойно сказал Грейвс. — Потому-то мы и должны торопиться. Впрочем, я лично убежден, что покуда мы бьем русских, эти снаряды, — он постучал стаканом по бутылке, — не будут падать на наши головы, даже если они уже готовы и лежат где-нибудь на аэродроме под Нью-Йорком. Кстати, полковник, вы, надеюсь, понимаете: этот разговор существовал только для нас с вами, для других его попросту не было.
— Разумеется, — поспешил подтвердить полковник. — Но скажите, дорогой Грейвс, что вы думаете теперь предпринять? Вы совсем ничего не сказали о русских!
— Я предполагаю воспользоваться вашим гостеприимством, полковник, и лечь спать вон на том диване. Русские в этих вещах все еще полуазиаты, они наверстывают свою отсталость в штамповке автоматов и пушек, и это все, на что они способны практически. Они велики только в мечтах, а все их открытия похожи на гениальные сны, за осуществление которых они никогда не умеют взяться. Но я все-таки здорово устал сегодня. У вас было отличное вино. Между прочим, вам никогда не приходило в голову, что нации, которая овладела искусством добывать в изобилии такие превосходные вина, грозит опасность остановиться в своем дальнейшем развитии, ибо она уже может чувствовать себя наверху блаженства? Итак, могу я воспользоваться этим диваном?
— Прошу вас, дорогой Грейвс. К тому же уже поздно. Вот вам запасная резиновая подушка. Надеюсь, вы еще сумеете ее надуть? Я тоже сейчас лягу. Мне надо запросить из наших резервов три или четыре танка, чтобы смять этих русских артиллеристов. Иначе я застряну тут, тогда как остальные части продвинутся еще дальше вперед и будут осуждающе указывать на меня пальцами. Как видите, у всякого из нас свои заботы…
При воспоминании о русских артиллеристах полковник снова почувствовал ревматическую боль в коленях и в то же время почему-то подумал: «Хотя этот Грейвс безусловно умный человек, тем не менее он, кажется, слишком уверен в безошибочности всех своих суждений и действий, а между тем жизнь, как это показывает опыт, не терпит слишком большой самоуверенности!»
Но полковник Шикльгрубер ничего не сказал об этом своему гостю. Он только поморщился от боли, потрогал колени сухими синеватыми пальцами и медленно вышел из комнаты, предоставив Грейвсу полную возможность спокойно укладываться на ночлег.
«ПЯТАЧОК»
Лодка, легкая и узкая, как челнок Гайаваты, скользит по течению у самого берега. В ночных тенях, темных и неподвижных от леса и призрачных, меняющихся от облаков, она почти не видна издали. Иногда она скрывается совсем под сенью нависающих над рекой ветвей ивняка.
Смолинцев сидит на корме и помогает течению веслом. Сразу видно, что он вырос тут, на этой реке, и что не раз приходилось ему вот так, упругими взмахами, вести лодку вдоль берега, среди выпирающих из воды сухого чепыжника и старых коряг. Сколько раз один и с товарищами он бил в этих местах сонную рыбу самодельной острогой.
Конечно, тогда все было не так, как теперь.
На носу, на листе старой жести, горели сухие смоляки, а сам он, затаившись у борта, вглядывался в таинственную, освещенную до самого дна водную глубь. На дне шевелились водоросли, чернели затонувшие прутья, поросшие зеленоватой тиной и казавшиеся щупальцами каких-то подводных чудовищ.
И вдруг на фоне маленьких песочных дюн, покрывающих дно, появлялся прямой, как стрела, силуэт спящей щуки или приткнувшегося к обомшелому камню головастого налима. Одно только неверное движение, слабый шорох, неловкий всплеск — и чуткая рыба мгновенно стрельнет в глубину или скроется в тине. С какими предосторожностями опускается в воду трезубец — старая вилка, привязанная к тонкому черенку! Как тихо, не дыша, надо прицелиться, чтобы затем рывком пронзить цель…
И теперь Смолинцев напряжен и чуток. Но совсем, совсем по-другому, чем в те безмятежные дни. Острый слух его ловит каждый шорох, и глаза отмечают всполохи света на противоположном равнинном берегу.
Там, наверное, немцы. Всюду немцы. А где же свои?
Все-таки хорошо, что он придумал пробираться на лодке. Это куда лучше, чем идти пешком: проклятая нога все еще может подвести. Впрочем, сейчас ногу почти не больно. Доктор туго перевязал ее бинтом, так, чтобы лодыжка не могла подвернуться при неловком шаге.
Доктор после того, как запил, валялся на своей тахте еще целых два дня, опять пил спирт, бормотал стихи и ругал французов за то, что они без боя сдали свою столицу.
Но затем, к удивлению Смолинцева, да и Тони, он поднялся рано утром, вскипятил на керосинке воду, тщательно побрился, надел белую сорочку с крахмальным воротником, повязал галстук, почистил щеткой пиджак и шляпу, взял трость и, не говоря ни одного слова, куда-то ушел.
Вернулся он вечером, деловитый, серьезный, весь как бы подтянутый и внутренне и внешне. Он извлек из ящика стола пакет в пергаментной бумаге, разложил на столе карту района и сказал:
— Вот здесь, недалеко от Каменки, в излучине реки, держатся наши артиллеристы. С трех сторон они отрезаны полностью, с четвертой — озеро, вода. Но они все-таки не сдаются. В этом их упорстве есть какое-то безумство. Но, как говорили во времена моей молодости, «безумству храбрых поем мы славу!»
— Я знаю эти места: у нас около Каменки были пионерские лагеря, — перебила Тоня. — Ты помнишь, Смолинцев?
— Еще бы!
— Так вот, — не обращая внимания на дочь, сказал доктор, — надо туда пробраться так или иначе! — Устремленный в упор на Смолинцева взгляд из-под пенсне был серьезен и строг. — Пробраться, найти командира и передать ему вот это.
Он подвинул Смолинцеву пакет в пергаменте.
— Сумеешь?
— А что тут? — Смолинцев тронул пакет, но еще не решился взять его. — Срочное донесение?
Эти слова из каких-то повестей о гражданской войне он помнил с детства и теперь сказал их, ка-к самое значительное, что пришло ему в голову, хотя он и недоумевал: какое от доктора может быть срочное донесение?
— Нет, это совсем другое, — сказал доктор.
Он немного подумал, потом развернул пергаментную бумагу и достал из нее небольшую пачку исписанных карандашом листков.
— Вот слушайте, — сказал он и поправил пенсне. — Это записки пленного немца, которого вы видели в госпитале. Он случайно оставил их в перевязочной.
Доктор стал переводить их прямо с листа.
Весь вечер затем и всю ночь Смолинцев неотступно думал о человечестве. И хотя человечеству, занятому своими обычными делами, было, разумеется, вовсе не до того, что думает о нем комсомолец девятого «а» Миша Смолинцев, он тем не менее не мог отделаться от своих мыслей.
Он чувствовал на себе гнетущую и в то же время воодушевляющую ответственность. Лежа на кушетке между окном и шкафом в квартире доктора Тростникова, он то упрекал себя за то, что упустил пленного немца, то прикидывал на разные лады, что же следует предпринять.
Порой ему казалось, что исход всей войны, и будущее родины, и даже, может быть, судьбы всего мира зависят от того, сумеют ли люди вовремя предостеречь себя от грозящей им опасности.
В ту же ночь у него родилась мысль: пробраться на «пятачок» по реке.
Что именно будет предпринято по ту сторону фронта, как и кому удастся предотвратить и направить развитие последующих событий, он представлял себе не совсем ясно. Но он отчетливо и твердо знал, что делом его комсомольской чести, его прямым и безусловным долгом является немедленно передать сведения, случайно попавшие в их руки, советскому командованию.
Все оказалось так просто! Их никто не заметил. Лодка попалась вполне подходящая. Они отвязали ее от кормы какой-то старой баржи. Тоне тоже хотелось отправиться с ним, это было видно по всему. Она, конечно, не трусиха, в этом он убедился. Вернулась же она за ним в школу тогда, в день смерти Майи Алексеевны. Но Тоня не может оставить отца одного.
Она долго стояла на берегу, когда он отплыл. Силуэт ее виднелся на фоне белесого неба. Где-то под скулой, у шеи, он еще ощущал ее прикосновение. Она немного задержала свои руки, подавая ему рюкзак, и это было почти как объятие.
Как-то она добралась домой? На тумбе при входе в парк уже несколько дней висит объявление немецкой комендатуры: «За появление на улице после восьми часов вечера виновные будут подвергаться расстрелу!»
Расстрел за выход на улицу! Ничего себе!
Смолинцев всмотрелся вперед. Река, казалось, застыла в ночной дремоте, и только по шелесту воды у ветел было заметно, что она струилась по прежнему вся целиком. Большая рыбина выплеснулась из воды, и мягкий звук этот растаял в сумраке, как и легкий круг на поверхности воды.