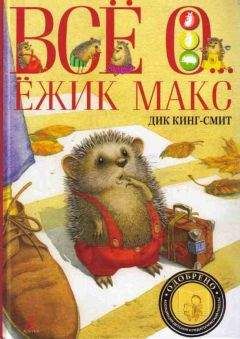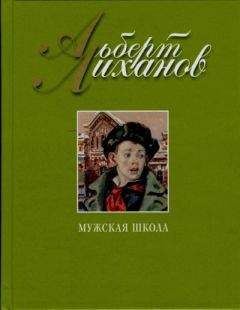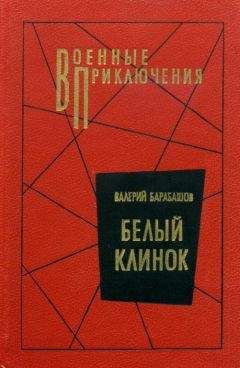Александр Зеленов - Второе дыхание
Впрочем, повсюду, куда они приходили, настроение было как накануне праздника. Все со дня на день ждали известия об окончании войны, девчата же — эти особенно. Они постоянно о чем-то шушукались, грудясь в тесный кружок. Завидев писаря, замолкали или поднимали истошный визг, принимались махать на него руками, требуя удалиться. Не раз доводилось видеть, как в центре такого кружка мелькала голая девичья грудь, в испуге прикрытая новой кофточкой или платьем: девчата готовились на гражданку, примеряя, прикидывая на себе все гражданское...
Да и не только они одни. Мысли у каждого были уже не на войне, а дома, потому и уполномоченного с его дознаниями не всегда принимали приветливо, не понимая, что ему надо. Ну убили и убили человека, тут и спрашивать не с кого, на то она и война.
А тот продолжал свое дело и, казалось, не обращал ни на что внимания. Только однажды писарю удалось увидеть, как в молчаливом и сухо-вежливом особисте проглянул вдруг живой человек.
Они направлялись тропинкой, березовой вырубкой от Бодренкова на триста третью, к сержанту Трынкину. И неожиданно из-под самых ног особиста выскочил перепуганный заяц. Выскочил, порскнул и стал уходить меж березовых пней, замелькал, высоко подкидывая задом, все уменьшаясь.
Старший лейтенант потянулся к пориковскому карабину:
— А ну позвольте, сержант...
Пуля взрыла сухую землю возле задних ног зайца. Косой подпрыгнул, взмыл круто вверх и, судорожно дернувшись всем телом, сделав немыслимую скидку, сгинул в ближнем кустарнике.
Уполномоченный долго смотрел ему вслед, сбив на брови фуражку. Затем перевел взгляд на писаря:
— Ушел косой... Эх! — И огорченно вздохнул.
— Умирать побежал, это точно! — заверил писарь как можно серьезнее. — Я своими глазами видел, как пуля...
Но особист вернул карабин, и снова меж ними все стало по-прежнему.
А писарю так хотелось поговорить! А что? Таскайся за ним, за этим, как хвост за собакой, да еще и молчи. Сколько же можно! Он хоть и писарь по должности, да и званием пониже, а все же на фронте был помкомвзвода, почти три года на «передке» отломал. У него и ранения, и боевые награды, он кровь за родину проливал, А такие, как этот, ошивались тут всю войну, старух да менялок ловили, а теперь еще хвост дерут, разговаривать не желают...
— А вот Турянчик — тот не промазал бы! — сказал вдруг с вызовом Пориков. — Вот кто стрелял так стрелял. А лосей как подваливал! С первой же пули...
Уполномоченный неожиданно остановился:
— Он что... На лосей охотился?
Пориков тут же остыл: проболтался! Надобно было как-то выкручиваться.
— Да нет, я точно не знаю, — замямлил. — Так, говорили вроде бы...
И замолчал.
Уполномоченный тоже не стал ни о чем расспрашивать. И опять оба топали молча — он, писарь, сзади, а особист впереди.
— Откуда на вас парусиновые сапожки, сержант? — спросил вдруг Киндинов, не оборачиваясь.
— А что, не положено? — писарь насторожился.
— Нет, я к тому, что точно такие же были на Турянчике, помните?! И на других я в вашей роте видал. Вам кто их, ротный сапожник шьет?
— Ну куда ему, что вы! — охотно откликнулся Пориков и, сразу же позабыв недавние злые мысли, принялся выкладывать все.
...Ротный сапожник у них, Подожков, может только заплатки ставить, а тот, настоящий-то, мастер в деревне, Заречная называется, — ну, за рекой которая, на повороте на триста шестую. Правда, у мастера у того туберкулез, давно уж на ладан дышит, зато сапожник он мировой. Кусок плащ-палатки ему принеси, мыла кусок, полмитрия в зубы — и полный порядок, через неделю приходишь — и вот тебе новые сапоги. Это уж точно.
— А что означает «полмитрия»?
— Ну, это поллитра, по-нашему... Хотите, и вам он сошьет, товарищ старший лейтенант, а то в ваших яловых жарко же, ноги потеют. А в его сапоге нога — ну прямо гуляет, знаете. Я бы уж вам и кусок плащ-палатки достал...
— Что ж, познакомьте при случае.
— А вы еще долго у нас пробудете?
Но особист, уронив казенное «сколько потребуется», снова замолк, захлопнулся.
Вот и поговорили!
А писарь хотел похвастать, что он уже многим заказывал там сапоги. И еще хотел рассказать, что несколько раз он сталкивался с Турянчиком в домишке того сапожника и каждый раз почему-то Турянчик прошмыгивал мимо, будто не узнавал его.
И опять вспоминался тот непонятный визит его на КП. Да и вообще все последнее время Турянчик как-то дичился людей, старался их избегать. Или, может, так только казалось? Но вот что Турянчик стал быстро седеть, это заметили многие.
На триста третью пришли они в полдень.
Расчет ее жил в деревне, в большой просторной избе. Позиция располагалась неподалеку, в вишенниках. Рядом с деревней, крутою дугой выгибаясь, подмывая высокий глинистый берег, текла река.
Жила триста третья богато. Другие точки казенным пайком пробавлялись, а здесь и муки, и картошки, и мяса навалом. А по воскресеньям и в праздники расчет ее даже едал блины.
Начальник станции Трынкин, не по годам располневший сержант, занимал в этом доме отдельную комнату, которую сразу же поспешил предоставить старшему лейтенанту. Ходили слухи, что Трынкин имеет какие-то там делишки с колхозом, с его председательшей — подбрасывает ей на работы своих людей, — но так ли все было на деле, точно никто утверждать не мог бы. Но вот то, что сержант гулял с дочерью председательши, это ни для кого не было тайной. Да Трынкин и сам не скрывал, а, напротив, поддерживал слух, что как только война закончится, Люська станет его законной супругой.
Умывшись с дороги и пообедав, уполномоченный уединился в комнате Трынкина и занялся своими делами.
Пориков тоже был сытно накормлен и, огрузнев от обеда, вышел на берег реки покурить. Сидел, опустив карабин между ног, поплевывая, поглядывая на речку, на оставленные по берегам полой водой следы, на грязные пятна истаявших льдин на луговине другого берега...
Дни стояли погожие, кругом все начинало распускаться, зеленеть. Пойменный луг был покрыт изумрудным ковром молоденькой травки. Купа берез на взгорье, на том берегу окинулась первой листвой и стояла под майским ласковым солнцем молитвенно неподвижная, словно окуренная зеленоватым прозрачным дымом.
Сверкала серебряной рябью речка. По урезу левого ее берега сизой каймой тянулся оставленный полой водой наплав. Сохла под солнечными лучами прошлогодняя трава, причесанная сбывшим течением в одну сторону. Приподнимались и расправлялись примятые и ободранные льдинами кусты прибрежного ивняка с длинными мочальными бородами на сучьях, обрызганные яркой весенней зеленью.
Писарь глядел на кусты, на рощу, на заросли сизой ольхи по берегу, и припоминалось детство, своя родная деревня, речка. И там вот так же были ободраны льдинами и примяты полой водой кусты, на которых висели мочальные травяные бороды. А на другом берегу, на песчаных наносах, выгоняла из-под песка на чешуйчатых толстых стеблях золотые солнечные головки своих цветов мать-и-мачеха. Чуть позднее начинали лопушиться ее кожистые широкие листья, темно-зеленые сверху и мягкие, войлочно-белые с изнанки, из-под низу. А на заливном лугу, с которого только успела сойти вода, — шоколадный кисель намытой водою грязи и ила, криво и как попало осевшие друг на друга крупные льдины по берегам...
Занятно было пробраться, оскальзываясь на жидкой грязи, к такой вот истаивающей на солнце, насквозь просвечивающей зеленым льдине, стукнуть палкой по краю и слышать хрустальный звон осыпающихся ледяных карандашей. Или бродить по свинцовым приречным елошникам, находить под бурой листвой пустые раковины улиток, искать на знобкой, еще дышавшей холодом снега земле голубенькие подснежники.
Как радовали они, эти первые весенние цветики! Как они были нежны! Отдавало от них чем-то чистым, невинным...
Весна постоянно и сладко томила его. Каждый раз с наступлением весны испытывал он предощущение счастья. Может, тогда, в те далекие детские годы, то было предчувствие скорого лета, каникул, когда уж не нужно будет ходить в надоевшую до смерти школу, а только ездить в ночное, купаться, бегать с удочкой на реку, лазить в чужой горох.
В детстве все было просто: зимой ходи в школу, летом — гуляй. Правда, ему очень рано, уже с восьми лет, пришлось самому впрягаться в хозяйство и помогать семье. Четыре лета подряд бегал в подпасках, работал на огороде, в поле — вместе с б о л ь ш и м и, со взрослыми. На фронте — там тоже было все ясно. Как шутили на «передке» солдаты, спереди противник, по бокам соседи, сзади трибунал. Одним словом, он знал, что делать, и дело свое солдатское исполнял. О том, что ждет его впереди, там, на фронте, особенно не задумывался, ждал, как и все, одного: как бы война поскорее закончилась. Но вот она и кончается. Что же он будет делать там, на гражданке?