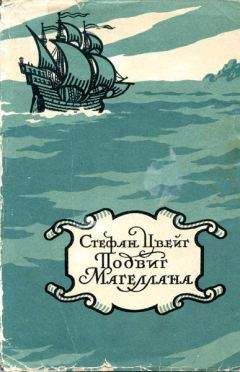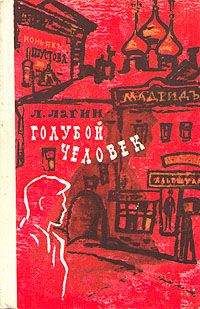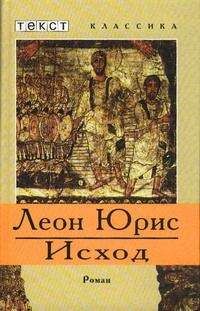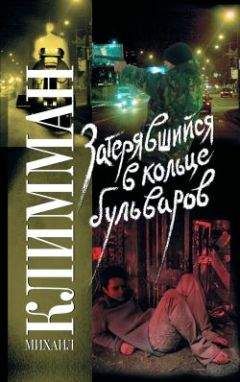Ганад Чарказян - Горький запах полыни
Но вот напряжение начало спадать. По мере утоления праведного гнева толпа стала терять монолитное единство. Кто-то делал только небольшой шаг в сторону, кто-то отходил в близкую тень и уже оттуда наблюдал за происходящим. Кровавый спектакль подходил к концу.
Мальчишки, которые привели летчика, участия в казни не принимали. Они стояли в сторонке молчаливой и даже немного испуганной группой. Белый холмик парашюта лежал рядом с ними. Подобное переживание оказалось для многих из них еще непривычным. Захват летчика, конвоирование — все это было отчасти игрой, а вот все то, что происходило сейчас на их глазах, на игру уже совсем не походило. Но они навсегда запомнят это потрясение, накал чувств и остроту ощущений, когда они впервые приобщились к грозной общности своего рода.
Опираясь на посох, старейшина, наконец, поднялся. Кивнул на овечью шкуру старику помоложе, возможно, сыну. Тот аккуратно свернул ее. Напоследок взглянул на меня и снова спокойно повторил так удивившие меня своей точностью слова: «Он — это ты». Теперь они прозвучали уже без угрозы. Просто как утверждение, на которое нечего возразить. А потом, обернувшись, произнес нечто совсем неожиданное и поразившее меня еще больше: «Уходи домой!»
Он просто читал меня как открытую книгу. Именно это я и собирался сделать — уйти, наконец, домой, в родную Беларусь, в свою дорогую Блонь. Время искупления грехов закончилось. И видимо, казнь летчика не была случайной и в моем сюжете. Она поставила последнюю точку в моей жизни на этой земле — жизни, в которой я, как мог, искупил свою вину перед этим народом. Искупил своим трудом и страданием.
Немного поднявшись за стариком по тропке, ведущей к дороге, я еще раз оглянулся. Толпа рассеялась, люди с мотыгами на плече спокойно уходили в разные стороны. Как будто идут с поля после привычной крестьянской работы. Кто-то уже опять ковырялся на своих развалинах.
Голубые окровавленные тряпки валялись по всей площади. Только какая-то старушка все долбила красный ботинок пилота с белевшей из него костью. Первые собаки торопливо уносили самые лакомые куски. Бросилась в глаза серовато-белая масса, облитая неистово алевшей на солнце кровью. На ней лежал неожиданно большой и чистый — с небесной голубизной — шар. С каким-то белым хвостиком. Прежде чем я понял, что это мозг летчика и его глаз, недавно еще видевший все вокруг, мой желудок сократился и выбросил все содержимое. Спазмы следовали один за другим, не переставая. Не поднимая взгляда, я свернул с тропы и, периодически сгибаясь в три погибели, заторопился вниз к реке. Казалось, что только вода поможет унять неожиданную рвоту и отмыть впечатления последних минут. Хотелось погрузиться в воду с головой или стать под тяжелую струю водопада. Но река была хотя и довольно широкой, но все же мелкой. Зато ее чистая ледниковая вода помогла мне прийти в себя. Скинув свои галоши, я зашел в воду по колено и стоял, держась за камень, пока ноги не заломило от холода. Только после этого — одно ощущение перебило другое — мучительные позывы прекратились.
Я впервые видел смерть так близко, во всей ее физической неприглядности. Сегодняшний солдат убивает, не понимая и не чувствуя в полной мере, что он делает. Он всего лишь нажимает на курок, на кнопку, и на большом расстоянии от него кто-то безличный и безликий падает, как фигурка в тире. А то, что он больше не поднимется — потому что лишился жизни, — как-то не приходит в голову. То, как эта далекая фигурка умирает, как это происходит во всей своей отвратности, убивающий не видит. И поэтому война все больше кажется игрой. И поэтому убивать все легче. И значит, можно и нужно убивать все больше. Правда, до тех пор, пока ты сам не становишься жертвой этих безликих и автоматических действий. Но твои чувства остаются с тобой, и ты уносишь тайну оправданного и разрешенного убийства туда, откуда никто ничего не может услышать.
Раздалось позвякивание металла о камни. Я оглянулся. К реке, волоча за собой мотыгу, подходил какой-то мужчина. Он опустил свой инструмент в воду, повертел им, розовая вода быстро унеслась дальше. После этого присел на корточки у воды, опустил в быстрые струи черенок, подержал его под сильной струей. Потом внимательно осмотрел свою мотыгу, как будто это был какой-то очень сложный прибор, провел пальцем по лезвию, вытер полой рубахи черенок и только после этого положил ее на траву. Затем снял паткуль. Умыл худое, почерневшее от загара лицо, поплескал водой на коротко остриженную голову, на сильную жилистую шею. Снова надел головной убор. Поднялся, оглянулся на кишлак и сказал, повернувшись ко мне:
— Все уходят. Кто выше в горы, кто к родственникам в другие кишлаки, кто в Кандагар. А ты куда?
Я пожал плечами. Исповедоваться первому встречному я не собирался.
— Здесь оставаться нельзя. Пошли со мной. Я знаю тропы. Да и вдвоем в горах все-таки надежней. Мало ли что.
Да, оставаться нельзя. Впрочем, и незнакомец тоже не торопится говорить, куда направляется. Но для меня пока это не очень важно. Главное — покинуть это роковое место, где нас могла ждать только гибель.
Если дорогу в Ургун я знал хорошо, то путь в сторону Кабула, минуя посты и оживленные дороги, представлял смутно. План движения — от кишлака к кишлаку, понемногу подрабатывая и двигаясь дальше. Практически каждое селение находилось друг от друга на расстоянии не больше дневного перехода. Если выходить на рассвете. Опыт моего первого бездумного побега — неизвестно куда — помнил хорошо. Сделал подарок к дню рождения. Впервые ощутив себя абсолютно свободным, пылко устремился в манящую неизвестность. Не имея никакого представления, куда могут вывести меня незаметные горные тропки. Они привели в мертвую страну цветных камней. И если бы через несколько дней меня не нашли пастухи, я так бы и умер в пещере от голода и жажды. Ну а теперь у меня проводник, хотя совсем и не знакомый человек. Я ничего не знаю о нем, он обо мне. Общее у нас только одно — мы соучастники убийства. Или вершители возмездия. Возможно, что это объединяет больше, чем любое другое дело. Думаю, что во многом именно на этом и основано пресловутое военное братство — тех, кто убивал и кого убивали.
Сегодня я убедился, что за долгие годы в этих горах так и не стал восточным человеком: до сих пор преувеличиваю ценность отдельной человеческой жизни. Иногда тоже думаю, что она ничего не стоит. И к чему тогда пышные надгробья, ограды? Только на могилах мусульманских святых есть отличительные знаки — старинный мраморный барельеф: голая, поникшая, как коромысло, жердь с конским хвостом на конце и ночью тлеющие свечи. Остальным — и богатым и бедным — яма в сухой земле, заостренный камень и больше ничего. Стоя на здешнем кладбище среди острых вертикальных камней без всяких опознавательных знаков, под которыми нашли последний приют мученики этого мира, я думаю о справедливости безымянности. Ведь мы приходим из неизвестности и уходим тоже в нее. Мы только капельки могучего, не иссякающего, постоянно обновляющегося потока. Ведь солдаты могущественной страны, где стоимость жизни точно определена страховкой, обращаются со своей жизнью точно так же — легко и бездумно, всегда готовые рисковать ею. Они словно играют в рулетку. Это тот единственный смысл, который им понятен. И какова же подлинная цена жизни, цена смерти? Кто же дает и назначает ее?
5
— Дада! Дада! Шурави жвандай! — пробился сквозь глухую стену боли детский голосок, а затем повис вопросом грубый мужской:
— Жвандай?
— Жвандай, дада! Жвандай! — детский голосок звенел у меня над ухом, настойчиво и умоляюще. Будто вырос из кошмарных сновидений, что сменяли друг друга. Но у голоса была чистота и свежесть реальности. Он был так же реален, как и монотонный шум реки, сводивший меня с ума и также увлекавший в хороводы сновидений. Я погружался в ледяные воды и пил, пил, не прерываясь, пытаясь хоть шевельнуть языком, намертво засохшим во рту. Но размочить его мне все никак не удавалось.
Хруст гальки под шагами. Обувь какая-то мягкая. Сухие жесткие пальцы прикоснулись к шее. Потом приподняли веко. И снова этот нежный ручеек детского голоса. Почему-то в нем удивление:
— Дада, стырга аби! Аби! — И потом тихое, почти благоговейное: — Шурави шаиста.
— Шаиста, шаиста… — проворчал недовольно грубый мужской голос. Но в этой грубости было что-то обнадеживающее, отметающее грубость. Да, в нем пряталась доброта, которая защищается грубостью от постоянно провоцирующего ее мира.
Потом опять тишина, удаляющийся хруст гальки. Неужели это последнее, что мне суждено услышать? Мой окаменевший язык уже ничем не поможет. Но последним усилием, сокращением живота удалось извлечь короткий и хриплый стон. И боль тут же очнулась, вспыхнула и ослепила. И падая в кошмарную бездну, опять услышал напоследок этот детский, ангельский, просительный голосок: