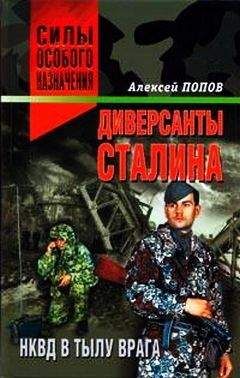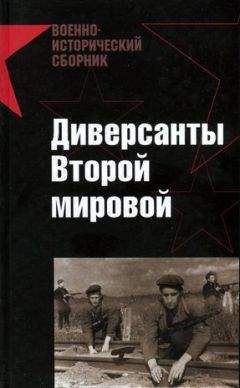Стивен Прессфилд - Охота на Роммеля
Вы разворачиваете танк не поворотом рулевого колеса, а с помощью рычагов и педалей, замедляя один трак и ускоряя другой. Это не так просто. При слишком крутом развороте траковые цапфы ломались, как спички, и гусеница разматывалась со «звездочек», словно туалетная бумага с рулона. Когда это происходило, каждый экипаж получал большие неприятности. На ремонт уходило несколько часов. Ситуация немного улучшилась или, по крайней мере, стала не такой раздражающей, когда нас отправили в Лалворт, где мы начали практиковаться на А-9 и А-10 (реальных танках), а также на новых А-13 — первых из той серии, которую прозвали «Крусейдерами» («Крестоносцами»).
«Моя милая Роуз.
Несмотря на успехи в учебе, я не радуюсь им, потому что знаю об отчаянном положении дел в Европе и в мире. Кстати, у меня появились кое-какие новости. Командир нашего учебного батальона перевел меня на курс офицерской подготовки (армия поступает так с каждым, кто хотя бы десять минут проучился в университете). Честно говоря, я не мог отказаться. Впрочем, он сказал, что я должен уметь управлять танком в любой ситуации, поэтому мне разрешили закончить курс вождения».
Лучший водитель каждого учебного курса награждался серебряным кубком. Я настроился выиграть его. Для управления танком требуется развитая мускулатура. Коробки передач весят сотни фунтов. У нас шутили, что манипуляции со сцеплением требуют силы двух мужчин и мальчика. Хороший курсант назывался «перцем»; тупицы считались «баранами». Эти две категории кромсали траками поля, носились по камням, следили за обзором и друг за другом. Будь вы даже водителем или стрелком, вас все равно обучали работе с рацией. Мы должны были освоить каждую специализацию, чтобы стрелок мог заменять водителя или радиста, а иногда и командира танка. Кроме того, от каждого курсанта требовалось знание ремонтных работ. Инструкторы, большинство из которых на гражданке были слесарями гаражей, обучали нас ремонту, намеренно выводя машины из строя: они отключали зажигание, засоряли топливные патрубки или придумывали какие-то другие гадости. Нам нужно было определить неисправность и устранить ее под крики наставников: «Что встал, придурок? Не можешь исправить такую мелочь, идиот?» Физическая подготовка состояла из трехмильных и пятимильных пробежек, с оловянными касками, нагруженными рюкзаками и ружьями на груди. Однажды утром на холме южнее Фордингбриджа мои ноги внезапно подогнулись подо мной и перестали двигаться. Санитарная машина доставила меня в госпиталь, где индус-майор, говоривший на безупречном английском языке, проверил мое тело от пяток до темени.
— Мне очень жаль, — сказал он. — У вас полиомиелит.
В те дни диагноз полиомиелит являлся самой жуткой новостью, которую только мог услышать пациент. Болезнь считалась заразной и неизлечимой. Паралич начинался с ног, затем переходил на торс и постепенно добирался до легких, после чего жертва могла дышать лишь с помощью чудовищного механического насоса, к которому она была прикована до конца жизни — неподвижная, лежащая на койке обуза. Несмотря на испуг, навеянный медиками, я больше всего переживал об отстранении меня от занятий. Почему они были столь важными? Я не могу ответить на этот вопрос даже сегодня. Наверное, многие мои сверстники тоже не смогли бы дать вам конкретный ответ. Нас тянуло на фронт как магнитом, и самым значимым было «не стать отвергнутым». Конечно, то наше юношеское понимание войны кажется теперь поверхностным до крайности. Эмоции и чувства проявлялись на родовом и первобытном уровне. Их источник коренился глубоко за гранью разума. Как бы абсурдно это ни звучало, но страх провести остаток жизни с железными легкими тускнел для меня в сравнении с агонией бесславного перевода в тыл. Я не мог быть вялым и немощным, когда над Англией нависла смертельная угроза.
Армейское начальство подвергло меня карантину и перевело из учебной части в гражданскую больничную палату. Роуз в спешке приехала ко мне. Она отказывалась верить в диагноз врачей. Эта милая девушка поссорилась с моим вторым и третьим доктором (не помню, сколько их было). Те не хотели выписывать меня из изолятора, боясь, что я инфицирую других людей. Однако Роуз не желала оставлять меня в палате среди больных с реальным полиомиелитом, где я мог заразиться, даже если еще не подцепил эту чертову напасть. Роуз приступила к собственным исследованиям. Она обложилась кучей медицинских журналов и перечитала сотни статей маститых и малоизвестных врачей. Она стала экспертом по вирусологии — и особенно по тем болезням, которые поражали нервные ткани. В конечном счете я прошел через шесть изоляторов и три госпиталя, каждый раз получая все новые диагнозы. К тому времени я потерял моторную функцию ниже пояса. У меня постоянно держалась высокая температура. Надежда на то, что болезнь окажется временной, быстро исчезла. Командир батальона (славный мужик) приехал в госпиталь, чтобы поздравить меня с приемом в офицерское училище. Курс начинался через десять дней.
— Мы придержим место для тебя, Чэпмен, — сказал он с такой интонацией, как будто уже не надеялся увидеться со мной еще раз.
Армия хотела комиссовать меня по состоянию здоровья. Я отказался. Мне оформили безвременный отпуск до полного выздоровления. Роуз отвезла меня на ферму к своей сестре в шотландском Голспи. Там мы поженились в кафедральном соборе Дорноча. Я сидел в кресле на колесиках, и в моем кармане лежало двухнедельное денежное пособие — один фунт стерлингов и шесть шиллингов. Мне никогда не забыть ту доброту и веру в мои силы, которые я чувствовал от членов семьи Роуз. Эвелин и ее муж Энгус позволили нам жить в их доме всю зиму, весну и следующее лето. Они относились ко мне как к родному человеку. А Роуз все-таки добилась своего. Она узнала, что существовала болезнь, похожая на полиомиелит, — так называемый «поперечный миелит» или «ложный полио». Доктора подтвердили, что это действительно так.
При поддержке Роуз я начал учиться ходить. Мне сделали железные наножные распорки, и я передвигался на костылях по пятьдесят ярдов в день. Через неделю я увеличил расстояние до ста пятидесяти ярдов, проходя от дома до почтового ящика. Когда мне удалось взобраться на холм рядом с фермой (восьмая часть мили), все семейство отметило это событие как праздник.
Вдоль берега Дорноча тянулись поля для гольфа. Мы с Роуз начали совершать по ним вечерние и утренние прогулки. Позже к нам присоединился бродячий пес по кличке Джек, встречавший нас без опозданий у первого флажка. В то время я ничего не знал о гольфе и думал, что это игра для стариков. Но пока мы с Роуз прогуливались там день за днем (сначала лишь до первой лунки и обратно), бесцеремонное великодушие местных игроков — в основном ветеранов Первой мировой войны — коснулось струн моей души и заставило меня оценить суровую красоту игры. В те дни я даже не поднял бы клюшку. Когда мы возвращались домой с похода к третьей или четвертой лунке, Роуз помогала мне подниматься по ступеням крыльца. Я так уставал, что, входя в нашу комнату, падал в кресло как подкошенный.
Стайн присылал нам письма и фотографии из Северной Африки. Во время операции «Боевой топор» он получил ранение. Его повысили в звании до старшего лейтенанта и отметили благодарностью в штабных документах. Он показал себя героем. Джок находился на континенте и почти не выезжал из Дюнкерка.[27] Я жутко завидовал им — как, впрочем, и каждому мужчине, который мог стоять, ходить и делать что угодно. На ферме все работы крутились вокруг поставок войсковым отрядам. Собранный ячмень, который до начала войны шел на завод в соседней Гленморангии, где делали шотландское виски, теперь скупался по контрактам Отделом фронтового обеспечения — зерно требовалось для фронтовых каш, супов и фуража. В Нейрне находился учебный аэродром, где пилоты обучались полетам на «Спитфайрах». Мы видели, как они отрабатывали «касание и взлет» на фарватерах и на гребном канале Королевского Дорноча. Береговой дозор патрулировал окрестности днем и ночью. Вдоль дороги на Джон О'Гроутс через каждые двадцать миль стояли зенитные батареи. Их цепь тянулась до самого Брора.
Месяц спустя Роуз отвезла меня для очередного медицинского осмотра в Инвернесс в госпиталь Рейгмора — к недавно призванному на военную службу местному врачу по фамилии Маклеод, который оказался кузеном моей жены.
— Вы уже стали наполовину шотландцем, — пошутил он, заметив, что я называю десерт «пудингом», детей — «крохами», а свою медлительность при ходьбе объясняю природной склонностью к «продаже баранов» (в смысле овец).
К середине лета я доходил уже до тридцать шестой лунки. Королевский танковый корпус не принимал меня обратно, пока я не прошел ФТВ (физкультурный тест на выносливость). Мне пришлось преодолевать полосу препятствий, которую курсанты офицерского училища проходили на время. К счастью, результаты в моей группе фиксировал старшина Стритер — тот самый танкист, рекрутировавший меня на призывном пункте в Кенсингтоне. Я получил 47 баллов из 50 возможных и сдал норматив. После войны мы со Стритером случайно встретились на станции Виктория, и он признался мне, что мой реальный результат составлял 27 баллов (полнейший провал).