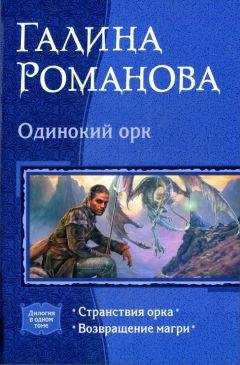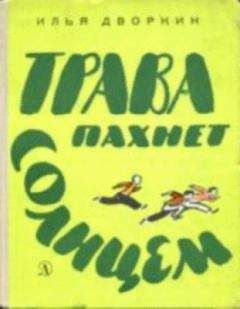Галина Василевская - Прощай, Грушовка!
Не успела я опомниться, как Зинка схватила мою кошелку и побежала. Я за ней. Пруд начинался сразу за поселком. Раньше здесь был карьер, где брали глину для стройки. На глубине его обнаружили родник. Постепенно карьер стал наполняться родниковой и дождевой водой. Вот так и образовался пруд, на радость детям.
Зинка уже сидела на траве, когда я подбежала к ней.
— Отдохнем немного и будем рвать крапиву. Вон ее сколько у берега!
Я присела возле Зинки, чтобы немного отдышаться.
Обычно к концу лета наш пруд пересыхал. А этим летом часто шли дожди, и пруд наполнился до краев. На берегу, неподалеку от нас, на зеленой травке сидели девчата. Было жарко, но никто не купался.
— Ты когда-нибудь играешь на своей скрипке? — вдруг спросила Зинка.
— Нет.
— Почему?
Я поглядела на нее и ничего не ответила. Зачем спрашивает? Разве и так не ясно, что не до музыки сейчас.
— А я играла бы, если б умела.
У самого берега, в маленьких кустиках, я заметила зеленую жабу. Она тяжело дышала, задрав вверх широкую пасть. Вдруг жаба замерла. Над ней закружился маленький мотылек. Покружился и сел на веточку. Жаба открыла пасть и длинным языком в одно мгновение слизала с веточки мотылька. Проглотила и опять тяжело задышала — перетрудилась. Потом, испугавшись чего-то, нырнула в воду.
Я засмотрелась на жабу и не заметила, как мимо нас прошел немец, офицер. Он подошел к девчатам, сидящим неподалеку, вынул пачку сигарет, протянул им:
— Битте!
Зинка прямо впилась в него глазами.
— Битте! — еще раз, более настойчиво, повторил офицер.
— Нет, нет, мы не курящие. Мы никогда не курили, — загомонили девчата.
Немец ничего не сказал и пошел дальше по берегу. Он стал предлагать свои сигареты другим девчатам, они тоже отказались. Он опять пошел дальше. Постоял немного, затем постелил газету на траву и присел.
С дороги свернули к пруду еще два фрица в зеленых, как жабья шкура, мундирах. Мне стало как-то не по себе.
— Пойдем отсюда, — сказала я Зинке.
— Что ты, здесь так интересно!
Я поднялась, взяла кошелку и ушла одна, так и не нарвав крапивы.
Дома я рассказала Вите, как ходила на пруд и видела там фрицев. Он как-то странно на меня поглядел. Лицо его начало краснеть. И чужим, тонким голосом он закричал:
— Купаться захотелось? С фашистами шпрехать?
Я не чувствовала за собой никакой вины.
— Не кричи, Витенька, я ведь только на пруд ходила.
— Чтоб у тебя пропало желание туда ходить, вот возьми, почитай! — Он подал мне тетрадь в кожаной обложке.
Я начала листать тетрадь. Для чего он мне ее дал? Вся тетрадь исписана по-немецки. Витя сказал:
— Читай перевод! — И он вытащил из тетради лист бумаги, на котором было написано: «По дороге от Мира до Столбцов мы разговаривали с населением языком пулеметов, никакой жалости мы не чувствовали. В каждом местечке, в каждой деревне, когда я вижу людей, у меня чешутся руки. Хочется стрелять из пистолета по толпе».
— Откуда это у тебя? — спросила я у Вити, тут же забыв о прогулке на пруд.
— Толя притащил домой целый мешок солдатской почты… Сигаретами угощают! — Он брезгливо скривил губы. — Дай мне лучше чистой бумаги.
— Это ты перевел?
— Какая разница кто.
Витя сидел и что-то писал. Потом, взглянув на часы, он вскочил, сунул исписанную бумагу в карман и шепнул мне:
— Пойду в сарайчик. Последи, чтобы никто туда не ходил, пока я вернусь.
Я не стала спрашивать, зачем ему понадобилось идти в сарайчик на ночь глядя. Идет, значит, нужно.
Я подошла к окну и стала смотреть во двор. Сарайчик, в котором мы прятались от бомбежки, — напротив дома. Слева небольшой огород, где росла свекла, которую мы доедаем. С маленьким топориком в руке прошел старик. В поселке его знают все. Кому дрова поколет, кому перекосившуюся дверь поправит. За это ему дают что-нибудь поесть.
Из дому выбежала Зинка. Ступила ногой в глубокую лужицу, остановилась в раздумье: пойти домой переобуться или бежать дальше? Махнула рукой и побежала дальше. Почему Витя так долго не возвращается? Может, пленного там прячет? Но зачем его прятать в сарайчике, если можно привести домой? Дома не будут за это ругать.
А может, он там листовки хочет кому-то передать? Так не обязательно там, и возле дома передать можно. Было бы что.
Я сделала вид, будто иду на кухню, а сама по лестнице бесшумно спустилась вниз. Дверь сарайчика прикрыта, но замка на двери нет. Значит, Витя еще там. Прислушалась. Узнала Витин голос, хотя говорил он тихо, точно из-под земли:
— Почему Курт сегодня бушевал?
— Чепуха. Я несколько картошек взял, хотел домой отнести, а он увидел, — ответил чей-то незнакомый голос.
— Он мог прибить тебя.
— Не прибил же.
— В другой раз прибьет.
— И в другой раз не прибьет.
Витя хмыкнул. Потом, помолчав, спросил:
— Листовки где разбросал?
— В кино.
— Все, Элик, на сегодня хватит.
— Лопаты здесь оставить?
— Оставь. Завтра закончим.
Я вернулась назад и все думала, с кем это Витя разговаривал.
Приоткрылась дверь сарайчика, вышел мальчишка и стал отряхивать брюки. Вспомнила: какой-то Элик работает вместе с Витей. Наверное, этот.
8
На заборах висели объявления об открытии новой школы, белорусской, где детей будут учить «любви к отечеству». Женщины, у которых были дети школьного возраста, обсуждали эту новость.
Школу открыли первого октября рядом с нашим домом. Я стояла у окна и смотрела, как мамы вели своих детей за ручку. Шли они робко, неуверенно. Желающих было немного. Среди детей были и подростки, мальчики и девочки. Они быстро прошмыгнули в дверь. И только Зинка шла с гордо поднятой головой. Меня в школу не пустили. На семейном совете отец сказал:
— Ей там будут всякую чушь в голову вбивать.
А Витя надеялся, что я пойду в школу, у него были свои соображения. Ребятам нужна чистая бумага. А где ее взять? Ученикам, наверно, будут давать тетради.
— Поищи на рынке, — попросил меня Витя, — ты маленькая, подумают, в школе учишься. Тебя никто подозревать не станет.
Тихонько, чтобы мама не заметила, я вышла из дома. Дул холодный ветер. Я подняла воротник своего легкого пальто и пошла быстрее, чтобы согреться.
Чтобы сократить дорогу, я пересекла железнодорожные пути и выбралась па улицу Фабрициуса. Оставалось свернуть направо и выйти прямо к рынку.
На стенах уцелевших домов, рядом с пожелтевшими от дождя объявлениями, углем, мелом или просто гвоздем было нацарапано: «Алеська, я у тети Шуры»; «Где вы? Я на улице Восточной. Катя»; «Мама, я живая. Железнодорожная, 18. Лида».
Люди искали близких. Шли туда, где жили когда-то, на свои пепелища, и оставляли такие записи, как последнюю надежду. Не хотелось думать, что многие погибли под грудами развалин во время бомбежки. Может быть, кому-то удалось спастись.
Я уже направилась к рынку, как вдруг услышала:
— Ну-ка поворачивай назад!
Передо мной стоял Антон Соловьев и показывал рукой на Московскую улицу:
— Топай туда.
Еще несколько человек шли туда, куда показал Соловьев. И тут я увидела, как со всех сторон полицейские гнали людей. У Центрального сквера, где находится театр, движение приостановилось. Тут же собралась большая толпа.
Зачем нас сюда пригнали? Я огляделась.
На тротуаре, у самого сквера, под кронами деревьев я увидела виселицы.
На разрушенный город опустились тучи. Поднялся ветер. Закачались толстые веревки с петлями на концах. Заплакало небо. Точно сквозь сито, заморосил дождь. Я дрожала то ли от холода, то ли от страха.
— Партизан будут вешать, — сказал кто-то в толпе.
Значит, уже есть партизаны. Те, кто не боится немцев…
Со стороны улицы Володарского послышался гул приближающихся машин. И вскоре показались мотоциклы, а вслед за ними ехали машины.
На грузовой машине стояло несколько человек со связанными руками — мужчины и одна женщина. Грузовик остановился под виселицей. Полицаи откинули борта, вскочили на машину и стали накидывать людям петли на шеи. Осужденные на смерть стояли над толпой. Они глядели на разбитый город, на разрушенные дома, на темные облака, закрывшие солнце. У каждого на груди висела фанерка, на которой большими буквами было написано: «Я — партизан».
Тихонько я выбралась из толпы, чтобы не видеть. Опустив голову, согнувшись, прошла я мимо театра на улицу Кирова и побежала к вокзалу. На перекрестке снова увидела полицаев, свернула налево и побежала к речке. И там дорогу на вокзал перекрыли полицаи, они указывали на улицу Ворошилова. Я повернула туда и тоже увидела толпу, виселицы, под виселицами грузовые машины. На грузовиках стояли мужчины, женщина и… мальчик, Мальчик был в шапке. Лицо избитое, окровавленное, но все же знакомое. Я стала вглядываться, и мне показалось: с петлей на худой детской шее стоял и глядел на развалины, потом на меня мой одноклассник Вася Коршиков. В моих ушах зазвучал его звонкий голос. Ровно год назад на школьном вечере, посвященном Октябрьскому празднику, Вася читал стихи: