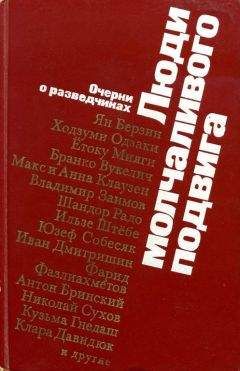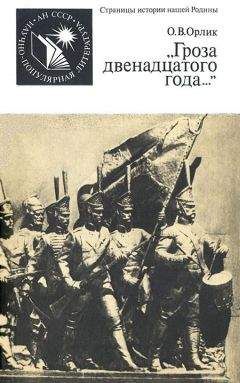Нгуен Нгок - Сын

Обзор книги Нгуен Нгок - Сын
Нгуен Нгок
Сын
Нет, никогда еще Нгуен не встречал такого ребенка.
Бывают, бывают, мягко говоря, не очень-то хорошие дети — непослушные, дерзкие, лживые, испорченные. Но, каковы бы ни были их изъяны, вглядитесь-ка им в глаза. И поверьте, глаза эти, широко раскрытые, ясные, бесхитростные, рассеют мучительную вашу тревогу, и в душе у вас забрезжит надежда. Потому что никакие провинности и кары не в силах сломить безотчетную и такую притягательную гордость, свойственную лишь детскому возрасту, — не заставят ребенка склониться, как сникаем мы, взрослые, под бременем неурядиц и бед. И, глядя на детей, мы часто утешаем себя: пускай мы согнулись, сломались — придет их черед, и они не дрогнут, не опустят головы.
Вот почему, увидав ребенка сломленного, потерянного, утратившего — как это бывает со взрослыми — всякую веру, со страдальческими морщинами на лбу, чувствуешь, будто попрана твоя собственная гордость и твои надежды рухнули, рассыпались в прах.
Но Нгуен встретил именно такого ребенка. Потом он узнал: мальчика зовут Чан, и ему только что исполнилось семь лет.
Он встретил Чана в такое время, когда и ему самому было несладко. Нгуен — командир роты в воинской части, отведенной сюда, на Север, из Южного Вьетнама. На угловатом смуглом лице его морщин мало, но они глубокие, резкие — какие бывают у человека, упорно подолгу размышляющего о чем-то. Поперек лба протянулся длинный шрам, точно прилипшая к коже лоснящаяся полоска слюды. Шрам не портил его лица, но придавал ему какое-то настороженное, тревожное выражение. Словно для наблюдений и раздумий ему не хватало двух темных чуть раскосых глаз и понадобился третий — посреди лба, всегда открытый, недремлющий, серьезный. В этом году Нгуену исполнилось тридцать лет, была у него жена и трехлетняя дочка. Он получил отпуск на десять дней; казалось бы, что может быть лучше для солдата. Наконец-то вернешься домой, ноги едва не пустятся в пляс у бамбуковых ворот, через которые не хаживал ты лет пять или шесть. Кинется навстречу жена. Прижмешь к груди маленькую дочку, дашь ей потрогать звезду на своем шлеме, позволишь засунуть ноги в карманы кителя. Потом она поднимет полненькую ручонку и проведет пальчиком вдоль шрама на лбу… Одних лишь мыслей об этом достаточно было, чтобы разбередить душу Нгуена. Конечно, о поездке домой он и не думал, ведь семья его осталась на Юге. А здесь, на Севере, не было у него ни родных, ни близких. Вот уж третий год у себя в части считался он лучшим ротным командиром. Поговаривали даже, будто его представили к ордену. Рота заменила ему дом и семью, он привязался к солдатам, как к родным братьям. О жене и дочке, оставшихся на Юге, он почти не заговаривал. А когда заходил разговор на эту тему, старался всегда отойти в сторонку. И вообще предпочитал уходить с головою в дела, за что и прослыл сухарем. Но он не обращал на это внимания и иногда только говорил себе: «Надо забыть… Надо, надо забыть…»
Хотя сам понимал прекрасно: ничего-то он не позабыл и никогда не забудет. В позапрошлом году, месяцев пять спустя после того, как попал на Север, он заехал по делам в городок; рядом — пыль столбом — громыхал карьер, где добывали строительный камень. Среди молотобойцев, коловших щебенку, увидал он земляка, работавшего раньше в их общинном комитете. Тот, заприметив Нгуена, вдруг выронил молот и застыл, ошалело глядя на ротного. Нгуен подошел поближе, земляк медленно поднял руку и положил ее Нгуену на плечо. Лицо его при этом, заметил Нгуен, почему-то побледнело. Наконец земляк заговорил. Жену Нгуена, сказал он, схватили каратели, и она пропала без вести. Что с дочкой — тоже неизвестно…
Вернувшись в часть, Нгуен никому не сказал ни слова. Скрытая в сердце рана горела днем и ночью. Чтоб заглушить боль, он и вовсе зарылся в работу, усердствуя чуть не до исступления. Он похудел. Беспощадное солнце на плацу и на полигоне сожгло дочерна и тело его, и лицо; беловатый играм на лбу стал еще приметней. Странно, конечно, но он очень редко мысленно представлял себе жену и дочь. Чаще всего — непонятно почему — виделось ему бледное лицо земляка, повстречавшегося у карьера. В такие дни его политрук Нян решал, что он нездоров. Иди, говорил он ему, отлежись. Нгуен и сам считал себя больным. По прежнему опыту — они тогда дрались в горных лесах — он знал: если чувствуешь приближение приступа лихорадки, единственное спасение — приналечь на дела. Если ляжешь передохнуть, проваляешься не день и не два. Вот и сейчас он весь ушел в работу. И все обошлось…
Оп отдавался служебным делам с таким неистовством, что, получив отпуск на десять дней, буквально оторопел, как бегун, налетевший вдруг на препятствие. Ему показалось, будто у него оборвалось дыхание и леденящий ветер разом остудил тело. Он совершенно не представлял себе, куда отправится на отдых. К кому поедет? Что станет делать целых десять дней? Но и не отдохнуть тоже нельзя. Он понимал, что долго работал через силу и ему нужна разрядка — физическая и душевная. Нет, отдыхать надо.
В конце концов он сел на попутную машину и поехал в Ханой. Послонявшись но столице, отправился дальше — в Хайфон: там, припомнил он, в школе-интернате для детей с Юга преподавала дальняя его родственница, вроде троюродная сестра.
В Хайфон он приехал на исходе дня. Пригревало солнце, с моря дул легкий ветер. На улицах покой и тишина. Он явился со своим вещмешком прямо в проходную у ворот интерната. Разволновавшись почему-то, он не обратил внимания на сидевших в комнате людей и стал разглядывать сновавших за дверью ребятишек и пересекавших двор девушек. Наверно, учительницы, решил он. Протянув старику дежурному свое удостоверение личности, он сказал:
— Позовите, пожалуйста, сестрицу Лиен. Она работает здесь учительницей.
И тут вдруг Нгуен словно воочию увидел Лиен, которую не встречал бог знает сколько лет. Он представил себе, как она вбегает в комнату и останавливается в изумлении, тараща на него глаза. А потом подбегает, хватает за руку: «О небо! Нгуен!.. Врат!..» На этот раз, решил он, расскажу Лиен про жену и про дочку. Вот уж два года, как схоронил он свою тайну на дне души. Но теперь, сам не зная почему, хотел заговорить о ней; ему не терпелось поделиться с Лиен. Может быть, признанье облегчит ему душу, и потом бы жилось как-то проще. Надо будет только дождаться темноты, чтобы Лиен не увидела слез на его щеках. Да, ему надо оплакать их, и он знал, что заплачет, рассказывая свою историю. Но плачущий мужчина, а тем более солдат — зрелище не из приятных.
Старик дежурный прижал пальцем к столу документ Нгуена, сдвинул на нос очки и, чуть наклонив голову набок, оглядел его с головы до ног.
— Вы, товарищ, которую Лиен-то спрашиваете?.. У нас их две, даже три…
— Мою сестру… Лиен… — точно очнувшись, пробормотал Нгуен. — Лиен из Биньдиня.
Старик снова проглядел его удостоверение, потом поднес бумагу поближе к глазам, проверяя печать.
— А вы, товарищ, — спросил он наконец, — кем, собственно, ей доводитесь?
Нгуен начал было сердиться и потому отвечал кратко:
— Братом.
На сей раз старик снял очки, снова оглядел Нгуена и покачал головой.
— Вы, наверно, только сейчас приехали издалека? — медленно спросил он. — Из Тханьхоа, не так ли?.. А у вас есть близкие здесь, в Хайфоне? Нет никого?.. Ай-яй-яй… Ну, ничего, поживите у нас денек-другой. Это можно… Сестра-то ваша, Лиен из Биньдиня, товарищ Нгуен Тхи Лиен, уехала учиться в Китай… Да-да, еще в прошлом году… Она вам ничего не сообщила?
«Поделом мне, — думал Нгуен, — не мог все узнать заранее!» Он почувствовал, что на лбу у него выступил пот, обернулся и увидел двух учительниц: они сидели позади него на скамье и глядели на Нгуена с явным сочувствием. Тут уж в нем взыграло самолюбие. Брошу, решил он, напоследок какую-нибудь фразу похлеще, повернусь и уйду. Но так и не сдвинулся с места.
— Да вы снимите свой вещмешок, — сказала одна из учительниц; судя по выговору, она тоже была из Биньдиня. — Присядьте, отдохните немного.
Голос ее звучал приветливо, ласково. Нгуен послушно снял вещмешок и уселся на скамью.
Через десять минут все та же учительница отвела Нгуена в комнату для гостей, указала ему свободную койку, объяснила, как опускается и поднимается накомарник и «уда положить пещи. Он рассказал ей, кем приходится Лиен, а она назвала свое имя — Лан.
На стоявшей рядом койке отдыхал мужчина, судя по виду — рабочий со стройки. Он радушно заулыбался, присел и, протянув Нгуену руку, сообщил, что приехал проведать племянника.
— У вас небось тоже здесь племянник? — спросил он.
— Нет, я к сыну, — улыбаясь через силу, ответил Нгуен.
Он и сам не понял, как с языка его сорвалась эта фраза.
* * *
Нгуен провел в интернате два дня. Он понимал: в отсутствие Лиен пребывание его здесь лишено всякого смысла. И все-таки не уезжал. Школьное начальство — все до единой женщины — жалели невезучего командира, ведь ему некуда было податься, а у человека как-никак отпуск. Они уговаривали его: оставайтесь, погостите еще. Но его удерживало другое — дети. Он был не так уж и чадолюбив. Когда последние несколько раз бывал дома перед уходом на Север, жена все пеняла ему: нет, мол, чтобы по-человечески взять дочку на руки. А он подержит ее на руках пять минут, и прямо невмоготу: малышка дергается, вертится, извивается — того и гляди вывалится на пол и вдобавок еще обмочит всего… Да и сейчас, у себя в части, редко когда заговаривал он с деревенскими детишками. И они почти не водились с ним. Он понимал, что не может найти общий язык с детьми, привлечь их к себе, и потому они не любят его, в отличие от прочих однополчан. Случалось, он переживал и мучился из-за этого. Здесь, в интернате, повторилось то же самое. Несколько раз, намереваясь свести знакомство с малышами, подходил он к ним во время игры. Они тотчас, как по команде, умолкали, настороженно глядя на него. А он терялся, не зная, с чего начать. Как-то он положил одной девочке руку на плечо. Она, дернув плечом, выскользнула: рука упала как плеть. Смешавшись вконец, он улыбнулся неловко. Никто из детей не улыбнулся в ответ. Один за другим они отошли в сторонку. Он вернулся в комнату, раздосадованный, угрюмый. Однако, чувствовал он, из глубины души его, покуда еще несмело, поднимается какое-то смутное чувство — мягкое, ласковое, но отравленное горечью. Он приехал в Ханой в воскресенье и, гуляя по берегу Озера[1] видел: вокруг полным-полно земляков с Юга. И почувствовал, как в сердце иглами впивается боль; душевному равновесию его пришел конец. А здесь, в Хайфоне, увидал он тысячи детей с Юга, совсем еще несмышленышами оторванных от родителей, от дома, от родины. И с пронзительной ясностью вдруг понял, какая страшная рана рассекла надвое страну. Что за взгляд у этих детей: удивленный, неприкаянный, словно они ищут глазами нечто такое, чего никак не увидишь…