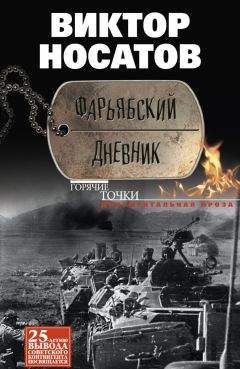Виктор Верстаков - Афганский дневник
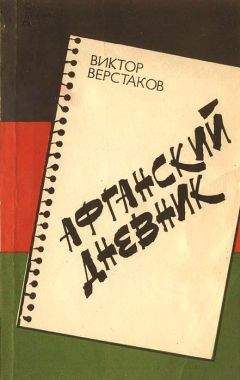
Обзор книги Виктор Верстаков - Афганский дневник
Виктор Верстаков
Афганский дневник
1. «Не обещайте деве юной…»
Впервые в Афганистане мне довелось побывать сразу после декабрьских событий 1979 года, когда по просьбе правительства Демократической Республики Афганистан (ДРА) в страну пришли советские воины. Помню, как много тогда возникло вопросов и как мало было на них ответов. В предновогоднюю ночь мне еще в Москве аукнулся по телефону знакомый десантник: «Про Леню Хабарова слышал?.. Не верю… не может такого быть… Ты перепроверь на месте, лады? Ну, с наступающим тебя. Возвращайся со щитом!»
Да, вопросов было предостаточно. Поэтому, наверно, особо памятна последняя перед командировкой ночь, которую провел в интуристской гостинице одного нашего большого южного города. Военно-почтовый самолет улетал на Кабул рано утром, я записался у дежурной по этажу, всласть напился зеленого чаю, включил телевизор. Показывали фильм о декабристах, звучала песня на слова, как позже узнал, Булата Окуджавы: «Крест деревянный иль чугунный назначен нам в грядущей мгле… Не обещайте деве юной любови вечной на земле». Вот все, что успел торопливо записать на слух в блокнот, приготовленный для афганских записей. Потом лег спать, долго ворочался без сна.
Вспоминаю ту давнюю ночь потому, что она характеризует не только лично мое настроение, но и настроение любого человека, который в ту пору в военной форме выезжал или улетал в Афганистан. Впереди ждала неизвестность, и это тревожило…
Я вырос среди солдат, в больших и малых гарнизонах, где служил отец; щи и гороховое пюре до сих пор кажутся мне вкуснейшей на свете едой. Когда пошел в армию сам, тоже переменил несколько гарнизонов. Позже стал военным корреспондентом и сейчас знаю об армии и флоте, конечно, побольше, чем когда-то. Наш народ велик, труд его многообразен. Одни журналисты и писатели лучше представляют будни хлеборобов, другие — геологов, третьи — шахтеров. Для меня ближе и понятнее всего армия, ее люди. Их люблю, за них волнуюсь, убежден, что они делают самое трудное и, несомненно, благородное дело.
Теперь вот какая-то, пусть малая, часть нашей армии вошла в Афганистан. Правительство ДРА попросило — мы пришли. Не нарушили ни международного орава (между двумя странами был соответствующий договор), ни каких-либо других государственных норм. И все-таки — с той стороны в наших солдат не стреляли…
Когда чужие войска переходят чью-либо границу, это очень серьезный шаг: справедливым он может быть только в том случае, если дело идет о судьбе народа. Сообщения же из Афганистана после апрельской революции семьдесят восьмого года, казалось, не давали повода для подобного решения. Поступала информация о растущем сопротивлении контрреволюционеров, о сложности революционных преобразований в отсталой в промышленном отношении, многонациональной, с остатками племенной розни стране, но подобные трудности, сопутствующие почти всякой революции, были предсказуемы и преодолимы.
Так что же произошло? Почему рязанские, хабаровские, ташкентские парни оставили гарнизоны на родной земле и теперь проходят действительную срочную службу в палаточных лагерях за Гиндукушем?..
Почтовик вылетел по расписанию. В просторном салоне лежали на брезентовых носилках завернутые в коричневую ломкую бумагу пачки газет, несколько мешков с письмами, на откидных железных скамьях сидели друг против друга восемь офицеров, прилетавших домой по служебным вызовам и теперь возвращавшихся в свои подразделения. Это я понял из их разговоров, но мог бы догадаться и сам — по смуглым лицам. Горное солнце щедро на загар, тем более если под палаточной крышей укрываешься только ночью. Я еще не знал, что через пару суток моя кожа станет столь же темной и даже в сумерках я буду с первого взгляда безошибочно определять впервые прибывших из Союза — по белеющим под козырьками фуражек пятнам лиц.
Совсем было настроился выйти из самолета в Афганистане, но почтовик, перелетев невысокие горы, приземлился на наш приграничный аэродром, зарулил на стоянку. Борттехник выставил из люка раскладную железную лесенку, по ней поднялись в салон трое пограничников, тщательно проверили личные документы, командировочные предписания. Поначалу возникло чувство, похожее на обиду: военные военным не верят, тем более что не на прогулку люди собрались. Но, выполнив служебный долг, прапорщик-пограничник застенчиво протянул руку — попрощаться. Жест получился располагающим. Без проверки ведь тоже не обойтись, все же не из Гомеля в Саратов летим.
С набором высоты оставили под крылом искляксанную островами коричневую ленту пограничной реки. Облаков ни внизу, ни вверху не было, сияло белое, чем выше, тем сильнее похожее на огонь электросварки солнце, маленькая тупоносая тень бежала по равнине за самолетом. Потом тень сгинула, а земля как-то внезапно растрескалась, это напомнило мне Арктику, где приходилось видеть похожие внешне участки ледяных полей.
— Что за черточки такие? — спросил у капитана-танкиста, с которым глядели в один иллюминатор.
— Дувалы, — коротко ответил он.
Дувалы так дувалы. Разберемся при случае. Показалось плоское селение, потом еще одно и еще, а все пространство между ними было расчерчено этими трещинами. Стало ясно: так выглядят с высоты огороженные крестьянские наделы. Позже узнал, что ограды защищают посевы и саму землю от жестокого, разрушительного ветра пустынь. Имя его знают, наверное, многие: афганец.
Потом впереди по курсу заклубились облака — ослепительно белые и бесконечные. Не сразу сообразил, что открылись горы: северные отроги Гиндукуша. Они великолепны, особенно тот огромный район, над которым летели с четверть часа: геометрически правильные гигантские пирамиды, грани залиты солнцем, снег на склонах дымно мерцает разноцветными искрами. Пейзаж почти инопланетный. (Теперь я хотя бы знаю название: мы пролетали тогда над центральным нагорьем Афганистана, горной страной Хазараджат; впрочем, во многих источниках пишут «Хазареджат», разнобой в написании географических названий, имен, всяческих терминов — едва ли не самое характерное для литературы об Афганистане).
Но одновременно думалось о том, как трудно в этой местности передвигаться на колесах и гусеницах, разбивать и обеспечивать всем необходимым палаточные лагеря, вообще жить и нести воинскую службу. Второе чувство пересилило, и я перестал умиляться горным пейзажем.
Промежуточную — перед Кабулом — посадку в Афганистане совершили на военный аэродром. Двое попутчиков вышли, остальные спустились по лесенке на землю — перекурить. Аэродром располагался в долине, и взлетевшая вскоре пара афганских истребителей набирала высоту с незамедлительным разворотом. Издали казалось, что самолеты начали разворачиваться, еще не оторвавшись от полосы, чего, конечно, никак быть не могло, но тем более зрелище впечатляло.
К стоянке быстро подъехал крытый брезентом ГАЗ-66, забрал почту и умчался восвояси по глубокой снежной колее.
Успел познакомиться и поговорить с одним из офицеров, встречавших самолет, — майором Николаем Ивановичем Мамыкиным. Спросив что-то у командира корабля (вероятно, насчет возможных посылок), майор отошел в сторонку и, сунув руки в карманы потертой кожаной куртки, снисходительно поглядывал на суету возле самолета. Николаю Ивановичу с виду лет тридцать пять. Лицо обветренное, худощав, невысок. Рассказал, что ночью и утром валил снег, взлетно-посадочную полосу расчистили всего за полчаса до нашего приземления.
— Если бы не почта, до ночи бы не управились. Без писем ребятам трудно.
Договорились встретиться через несколько дней, а с ходу откровенного разговора не получилось. Право на серьезный тон «бледнолицему» заезжему офицеру здесь надо еще заслужить.
Снова взлет, путь над горами…
Через много месяцев, осенью 1981 года, я повторю этот маршрут, однако настроение перед полетом да и сам полет будут уже другими. Разницу в двух словах не сформулируешь, а она важна для понимания событий, поэтому, забегая вперед, коротко опишу второй полет: читатели могут сравнить.
В просторном салоне реактивного Ил-76 тускло светят потолочные лампы в приплюснутых, молочного цвета плафонах. Только что закрылись в корме грузовые створки, а многие попутчики, тесно сидящие на узких и длинных, во весь салон, скамьях, начали дремать.
Вот откинулся на стеганую обшивку борта, прикрыл глаза плечистый, кудрявый сержант-десантник в голубом, сдвинутом на затылок берете. Поблескивают на его груди значки: красно-белый — гвардейский, голубоватый — классного специалиста, пестрый — военно-спортивного комплекса, сине-белый — парашютиста с цифрой 50 на подвеске, знак «Отличник Советской Армии». Чуть поодаль дремлет авиатор в коричневой кожанке с косыми молниями на карманах. Рядом сидит черноусый майор-общевойсковик, читает журнал «Искатель», зажав в уголке рта незажженную резную трубку с красноглазым чертом без черепа. Даже не дремлют, а крепко заснули два совсем юных лейтенанта, один опустил голову на упертые в колени руки, другой привалился ему на плечо.