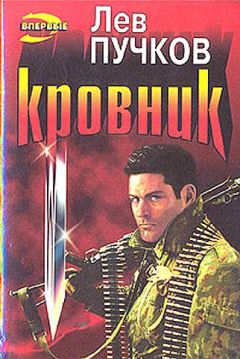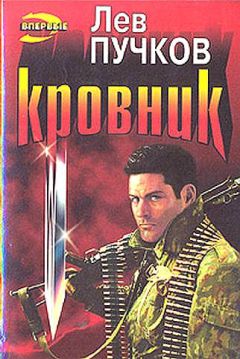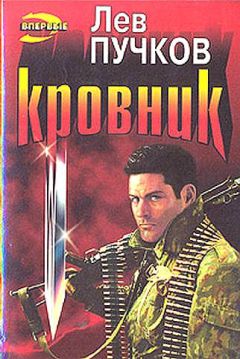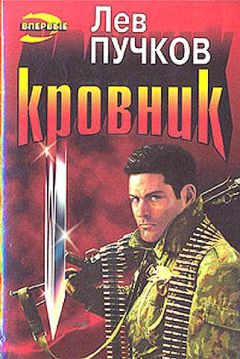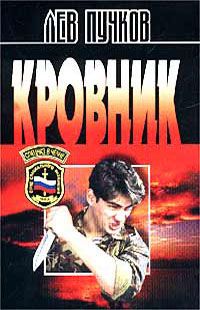Владислав Шурыгин - Русский капитан

Обзор книги Владислав Шурыгин - Русский капитан
Владислав Шурыгин
РУССКИЙ КАПИТАН
Русский капитан
Мы молча и хмуро выпили. Так же молча каждый зацепил вилкой по куску тушенки из банки. Зажевал обжигающую, перехватывающую дыхание водку.
…Выпить в армии есть неисчислимое количество поводов. Скорее их даже больше, чем необходимо. Но среди всех, пожалуй, только один, которому никогда не рады, который никогда не ждут — помин по погибшему товарищу.
Сегодня мы поминали капитана.
Капитан был романтиком. Капитан был рыцарем. Капитан был воином. Конечно, он ненавидел войну, и в словах «романтик», «рыцарь», «воин» нет ни единого поросячьего восторга перед страшной работой убивания людей, в чем и состоит сущность войны. Капитан во всем пытался найти духовность, даже на этой страшной, бессмысленной войне он жил по каким-то своим нравственным законам, которые никогда не преступал сам и не позволял этого делать никому вокруг. Война, бой, смерть, страх были для него не больше, чем вызовом. Вызовом его вере, его убеждениям, его морали. И в это огне он выковывал их. Как мальчишка радуясь удачам, переживая промахи, капитан не замыкался в мире своей роты. Боевого железа, приказов, сводок, рейдов, докладов, построений и всего прочего, что заполняет жизнь офицера на войне «под завязку» до измождения. Война была для капитана еще и возможностью познать совершенно не знакомый ему мир. Он мог часами разговаривать с пленными «чехами» не о том, где их лагерь или сколько гранатометов в отряде, а об истории того или иного аула, или об отличии «горных» тейпов от равнинных.
Он долго искал Коран на русском языке, и когда, наконец, после одного из рейдов кто-то из солдат, зная страсть своего командира, положил ему на стол Коран на русском языке, он уже через неделю свободно цитировал целые суры, а еще через месяц вел долгий богословский спор с муллой кишлака Центорой, за что получил за глаза прозвище у чеченцев «урус иблис» — русский дьявол.
Нет, капитан не стал «гуманистом» и его ненависть к боевикам никак не уменьшилась от знания «послания Пророка» или истории кишлака Гуниб; его разведроту боялись, за голову его чеченцы назначали все большие суммы, количество могил боевиков, «сделанных» разведчиками капитана, неуклонно росло.
Капитан умел воевать. Ведь он был очень «стар», этот капитан. По возрасту своему ему давно уже пора было примерять подполковничьи погоны. В далеком 84-м он закончил училище. По выпуску отвоевал два года в Афгане, потом служил в Прибалтике, там же попал под следствие как «гэкачепист» и «враг литовской демократии». Наверное, это клеймо и поставило крест на карьере капитана. Выше комбата он так и не пошел. С кем он поручался из своих начальников так и осталось для меня загадкой, но только все представления на майора из округа возвращались с завидным постоянством без удовлетворения. А «старый» капитан тянул свою лямку, успев за это время побывать в Приднестровье, Абхазии и Таджикистане. Дивизия, в которой он служил, считалась «миротворческой», поэтому сидеть на месте ему не приходилось.
Может быть, потому, что жил капитан одиноко, без семьи, которая, как и у тысяч других таких же капитанов, растерялась где-то на ухабах нынешнего лихолетья и безвременья. Рос где-то в Гомеле его сын. А сам капитан, тридцати трех лет от роду, во второй уже раз водил по Чечне свою разведроту…
И вот теперь Петрович привез горькую весть о его смерти.
…Мы пили из стальных, бледно-зеленых «стопок» — бывших предохранительных колпаков на взрывателях минометных мин. На каждом колпаке армейские умельцы вырезали надпись: «Орехово» — место, где мы впервые познакомились с Капитаном. Эти «стопки» были его подарком на память. Теперь мы разливали по ним водку, поминая капитана. Между стопками на столе лежала тонкая пачка замусоленных листов. Вперемешку: тетрадные, бухгалтерские формы, чистые изнанки военных рапортов. Это были письма капитана. Из-за них Петрович и приехал в Москву из своей Вологды, где проводил отпуск.
Письма эти Петрович не передал адресату. Почему — не объяснил. А привез их мне, не зная, что с ними делать дальше.
— Эх, какой человек был капитан! — тяжело вздохнул Петрович. — Замечательной души был человек. И вновь забулькала водка, разливаясь по «стопкам».
* * *Привет, Рыжик!
Прошла уже целая вечность после твоего суетливого, полубезумного побега… Впрочем, о чем это я? Скорее начать надо с того, что вообще не думал, что когда-то буду еще писать тебе. А вот, видишь, как выходит. Странная штука жизнь…
Итак, второй раз я здесь, в Чечне. Ровно год прошел после предыдущей командировки. Тогда уезжал — заканчивали брать Грозный. Шли на Гудермес. Все было на колесах, все было временно. Теперь все иначе. Воюем в горах, а под Грозным теперь — «база». Целый город выкопали в черноземе. Палатки, землянки, «колючка», траншеи, склады, автопарки. Все в земле, все — под землей. Каждый «квартал» — это полк или дивизия. Между «кварталами» — свои улицы. «Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную». Помнишь? Здесь почти так же, но со своей спецификой — пройдешь по Штабной, свернешь на Дзержинскую (дивизия имени Дзержинского), потом по Госпитальной и за Хлебозаводской на Спецназовскую, к нам.
Вообще, город наш кто-то метко окрестил Шанхаем. Самое то название. Очень точно. Основной строительный материал в «городе» — это брезент, чернозем и неисчислимые отходы «жизнедеятельности» войны. Доски от снарядных и патронных ящиков. Куски шифера с разбитых домов, списанные кузова, тенты и прочая, прочая, прочая. А над всем этим — сотни труб. Как ты догадываешься, центрального отопления у нас тут нет. Все на «буржуйках» «поларисах» (соляровая модификация «буржуйки») и тому подобном. А еще светомаскировка. Ночью выйдешь из палатки — тьма, только трещат тут и там, как сверчки, дизели генераторов, кормя скудным военным электричеством радиостанции, штабы, палатки. А над Шанхаем — причудливый частокол труб на фоне «вечного огня» — зарево горящей уже полтора года скважины, что на склоне горы перед нами. Наш «Александрийский маяк».
Сюрреалистический, скажу тебе, пейзаж. Хрустит где-то щебенка под сапогами часового да дождь (по натянутому брезенту он стучит с особым «барабанным» звуком) засыпает все вокруг.
Кстати, дождь у нас особый катаклизм. В дождь наш Шанхай превращается в бесконечную полосу препятствий. Чернозем быстро раскисает в белесую липкую и жирную, как клейстер, грязь. И тогда — все. Тридцать метров до штаба — это цирковое выступление эквилибриста. «Улицы» — целые грязевые реки. Пройдет мимо техника — только лицо прячешь, а так — оттирать бессмысленно, только сильнее вотрешь. Засохнет грязь сама отвалится. В палатках — сырость, духота, угар. Дрова мокрые — тепла не дают, только чад. Форма, спальники отсыревают так, что, кажется, в мокрое полотенце заворачиваешься. А тут еще мои «раздолбаи» хреново палатку натянули. Прямо над моей койкой «карман» образовался. А в нем — полванны воды. К утру даже прорезиненный брезент не выдержал — дал течь. Проснулся, как младенец — весь мокрый.
В общем, если исключить «лампочку Ильича» и радиостанции, то с точки зрения быта армия как жила при Суворове или Ермолове, так и живет. «Наши матки — белые палатки».
Странная мы страна. Одной ногой в космосе, в двадцать первом веке, а другой — в дремучем Средневековье. Обидно вот только, что армии, почему-то все одно Средневековье достается.
Вот, пожалуй, и все. Выговорился — и на душе легче стало. Так что, наверное, это и не письмо вовсе. А просто мысли вслух. Да и к чему тебе эти письма? Надеюсь, твоя душа в порядке. Твои дела — о'кей, твое будущее — безоблачно.
Год назад ехал сюда, а думал только о том, как вернусь к тебе. А теперь мне некуда торопиться. Теперь я здесь дома. Это мое Средневековье. А ваш «индезидный», «ровентовский», «бошевский» двадцать первый век застыл где-то далеко-далеко, в замерзшем янтаре ушедшего декабря.
* * *Привет, Малыш!
Сегодня поймал себя на крамольной мысли, что очень часто мысленно разговариваю с тобой. Рассказываю тебе, что видел, что пережил, о чем думаю.
Честно говоря, меня это разозлило. Мне казалось, что я выдавил тебя из своей души; не забыл, но хотя бы перестал чувствовать. Перестал болезненно сжиматься при воспоминаниях, мучиться мужским ревнивым томлением по ночам. А вот глядишь, откуда ты ко мне пробралась. Собеседник ты мой, боевой. Ну да ладно. Поскольку у нас сейчас утро и отдых, а у тебя в столь ранний час пятый сон в твоем со всех сторон приличном и благополучном доме, почему бы нам не поболтать?
Вот уже месяц, как я здесь. И чем больше недель я здесь, тем все больше и больше засасывает меня эта война. Она, действительно, совсем не похожа на те, что были до. Ни на Афганистан, ни на Абхазию, ни на Таджикистан. Эта война словно пришла из какого-то дремучего Средневековья. Я еще не могу выразить словами ее понимание, а скорее чувствую. Пожалуй, впервые я как офицер, как солдат столкнулся не просто с врагом, как «ролью» («мы» — «они»), а с врагом по предназначению, по сути. С большой буквы.