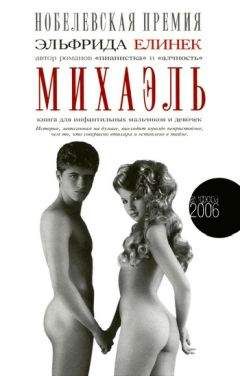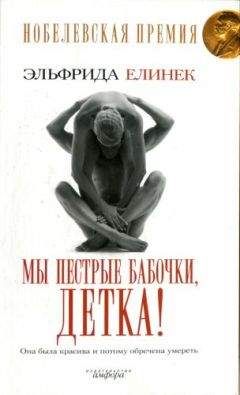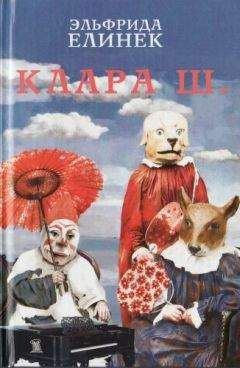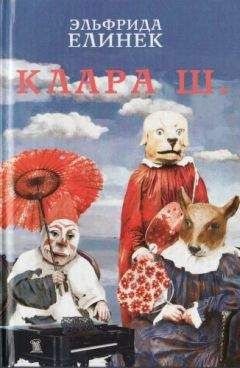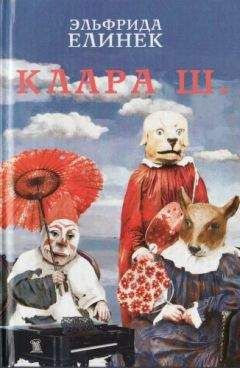Эльфрида Елинек - Дети мёртвых
НИКАКОМУ ЧЕЛОВЕКУ не бывать островом блаженных, а стране это по силам. Страна имеет право на здания, в которых она выражает свою позицию. С тех пор как появились сети-авоськи, в них ловится более или менее людей, и тут позиция большого здания может стремиться к избавлению, это его право как основной структуры жительства: мелкие кусочки блевотины ловко выскакивают из дверей и прыгают в свои машины. Этот город, этот ландшафт такого выдающегося качества, что его не так-то просто перещеголять. Город, например, и по сей день магически притягивает к себе чужих, чуждых и даже наичуждейших, которым и я теперь вынуждена отвести место: они явятся ровно в десять, к началу экскурсии в пространство вакуума, так что у них вырвет биты из рук, поскольку мы всегда были биты лучше. Пространство вакуума, созданное здесь, обладает такой притягательной силой, скажу я вам, в принципе даже строительство не может по-настоящему заполнить это пространство; а где не хватает столько людей, туда мы и помещаемся, мы поселились в мёртвом городе, чтобы строения были приятно согреты внутри и не так легко опрокидывались. В зданиях, таким образом, тысячи обиженных, которые плывут в ореховых скорлупках (снаружи жёстких, а внутри — мягкое ядро!) по свинцовому озеру, полному зловонных сточных вод, отталкиваясь шестом, и хотя чёлн есть их собственная шкура, трофей для Ничто, который они, естественно, спасают в первую очередь, всё же он то и дело переворачивается. И они тогда увязают в металлической водной массе, как ложка в пудинге, выбираются, путаясь в своих и чужих ремнях. Заграница недостаточно нас питает! Она сама норовит прийти сюда и питаться. Поэтому мы выпроваживаем её домой или гасим фонари её жизни прямо здесь, у нас. В супе-пюре мы всегда плаваем поверху. И то, что мы не можем проглотить, мы по-собачьи зарываем в землю, чтобы провиант для гигантского пира, где снова будут поедать людей, сохранялся в бункере, защищенный от воздуха. Так точно. Всё под одну крышку! Левокруг-ом, правокруг-ом! На задние лапки, служить! Партнёршу — подкинуть и опрокинуть! Вот так хорошо.
Кольцевая дорога валится, как вязкий лавовый ток под нагрузкой нескольких трамвайных линий, и, под напором противоречивых течений нескольких тысяч машин, всё же с наслаждением переворачивается и подставляет брюхо первому мая, чтобы почесало, потрепало — по старой традиции. Можно пройтись или проехаться и по бокам. Эти минимальные условия описания и обихода я создаю себе лишь для того, чтобы обратить ваше внимание, что мы приближаемся к пункту, к которому мы точно так же могли подойти и пешком, если бы не жили так далеко… Наша порода выведена специально для прямохождения, поскольку из нас хотели произвести что-то получше, чем скотина. Но грацию из нас всё же изгнали, зато чувства гоняют теперь в наших душах беспрепятственно куда хотят, играючи, клыками рвут, мотая головой, последние остатки сострадания, вытягивая их из живота, куда мы отдали в раскройку наши мысли; они резвятся, как охотничьи собаки, эти чувства, которые иногда, ночами, нас терзают, потому что мы тайком подглядывали за богиней (по прозванию Истина) во время купания и ничего не увидали, потому что чечевицы наших контактных линз пустили на похлёбку. Мёртвые подставляют под наши подошвы усталые спины и в последний раз напрягают плечи, чтобы мы могли прочнее встать на них. Иначе как нам вкрутить в стены нашей горы все крюки, чтобы повесить на них людей? Пока мёртвые, развешанные, наконец, не будут расфасованы для потребления и мы не примемся за их потроха. Мясо должно отлежаться под нашими задницами, чтобы не было слишком жёстким. Мы так рады, что имеем право; этого не выдержать. Почему я это говорю? Передо мной раскрывается угрюмое, мрачное место, подвальный этаж так называемого культурно-исторического (наверху: этнографического!) музея, идёмте, взглянем, но не вблизи, у нас мало времени, мы ещё должны потом посмотреть в Штайнхофе законсервированные в стеклянных банках мозги, — итак, музей просто суперогромный, один только вход! В нём зал за залом, в них показаны разбитые формы человека. Можно увидеть, как они были задуманы, прежде чем смогли ускользнуть от нас и нашего насекомого яда. Увидев, что это нехорошо, мы, их боги, разбили эти красивые формы, но сделать новые руки так и не дошли. Так что этих людей здесь не могло быть и раньше. Но перед тем как их здесь не могло быть, мы их сфотографировали и обмерили, также и сроки их жизни, чтобы они ещё перед своей смертью узнали, как им нельзя было выглядеть, чтобы понравиться нам. Трудно сегодня поверить, каким шумом был охвачен этот город, и всё из-за людей, которые, на сегодняшний взгляд, имели нормальный, совершенно обычный вид. Сами не загаженные, руки не обжарены на вафельной решётке, никаких следов от палок, которыми их загоняли на тот свет, но ничего не помогло. Спасибо, ещё не пришлось платить почтовые сборы, ведь не мы посылали, а нас! Эти люди, бережно пересчитанные нашими материнскими заботливыми руками, были отправлены в летний лагерь, где работу давали бесплатно; РАБОТА: меньше! дороже! (как евробананы). Вначале они жили здесь, а потом марш за дверь. Эта дверь уже чуть не в вертушку превратилась. Сегодня мы возникаем, подобно кристаллам полупроводников, которые помогают быстрее отводить уже отдуманные мысли (а то бы мы были не только никогда не бывшими, но и никогда не думавшими быть!), в стерилизованном, пустом пространстве, вставленные в двусмысленность, которая одна удерживает нашу форму; да, мы всегда начальные существа, поскольку должны быть формой для других. Все как мы! Мы всегда являемся заново и всегда как новенькие. Всё лишь мы! Пусть это напомнит об истине: этот кричащий мир будет взвешен на самых новых детских весах, всё-таки мы — немцы! австрийцы! ледниковые мумии! — только мы поём так, что лопаются струны. Медлительные лица поднимаются в ночи, из которой мы сосём чёрное молоко поэта и потом срыгиваем, потому что и одного глотка было слишком много, — молоко, которое, кажется, пугает даже наше кудрявое дитя — истину, хотя это молоко есть наш чистейший натуральный продукт, который мы, стоя на коленях перед Европой, хотим ей преподнести. Слишком много плача у дитяти. Надо бы этого посиневшего младенца Истины со слишком узкими сердечными сосудами слегка придушить нашими телами, лишь бы он не вырос.
Экспонаты приколоты на стенах, как бабочки, каждый сам себе чистая раса, в одном муж. и одном жен. экземпляре, все классифицированы. К сожалению, мы в нашей школе жизни провалили столько людей, а ни один папа не пришёл и не устроил нам разборку, они не дотягивали до нашей — классной! — цели: белокурые локоны, взор на голубом глазу, и всё ручной выпечки, с изюмом и цукатами. Мы набиваем это в себя в качестве основного блюда, с восторгом на десерт: нам принадлежит конечная ступень развития, все предыдущие ступени мы счастливо преодолели; к сожалению, наш способ выражения ещё несовершенен, поэтому нам нужен этот зал предков, чтобы напомнить, как нам никогда не надо выглядеть, и сегодня тоже. Так, теперь мы получили об этом представление. Чужих долой за дверь. В этом строжайше закрытом просторном подвале музея мы, значит, показываем, какими в Австрии мы не можем быть, чтобы мы могли быть. Представьте, если бы нам надо было спасти детей Израиля от змеиной напасти во время странствия по пустыне! Тогда бы мы не промахнулись, попали с нашим газом в точку, и нам бы не пришлось стоять здесь, как побитая трёхногая собака в телевизоре, которую никто не хочет взять к себе. Мы рассматриваем экспонаты: тут бытие показывают так, как его увидели бы в вечных охотничьих угодьях наши овчарки, если бы были послушны, — там животные пасутся на зелёном лугу и ежедневно получают от нас свежую воду. Мы те, кто мы есть, каждый сам себе бог. И с мыслью, кого бы нам ещё отдалить, чтобы остаться среди своих, мы расстилаем наши земли, как дешёвые ковры, которые, подумать только, становятся тем лучше, чем больше по ним топчешься, — давно испытанный метод, достаточно востребованный и подражаемый. Ковровые дорожки скрывают мёртвых, так что мы можем вести себя перед иностранной прессой как непонятные существа, понятия не имеющие, как все эти мёртвые души попали под ковёр. Однако вы, Бог, следите, как бы ваш Сын не явился вам в человеческом образе! Это было возможно следующим образом: в виде карточек картотеки все люди совершенно плоские, такими их тела и становятся со временем. Их легко сжигать всех разом, иногда спрессовав в брикеты, и всё-таки в нас сохраняется как пустота, как избыток: кровь, которая выступает поверх наших национальных нарядов. Хотите прочитать статью прейскуранта? Вот она, минуточку, я сейчас достану, вы можете выкинуть, но можете и прикинуть стоимость; документик, который я тут ввожу в обращение контрабандой, подержите светофорчик подольше на красном для этого народного товарища: «Дорогой Хайнц, я просто сражён приёмом, который ты повсюду получаешь. Другие господа, конечно, тоже, или ты так любим благодаря твоей венской лапочке? Хопса-сса дирал-лал-ла! Кто такие эти другие господа, неужели ты придёшь без венца? Хумпа-хумпа-хумпа! Я очень солидный и приличный, ещё не был ни у кого из нынешних, вчера с тирольскими штанами у Ромера, сегодня Вихарт. Чинн! Бумм! Старая песня. Генрих приценивался два дня и позвонил мне по телефону, что это встанет примерно в 35 тысяч, Юппхайди тоже должен подешеветь, я ему так и сказал. Я всё посмотрел по звёздам, чудесно, так живут как раз яппа-дабба-доос! (Фред? Фойерштайн! Что, и ты здесь? Кстати, что может означать Фойерштайн?) Я буду прилагать все усилия, а ты тоже держи за меня большой палец. Вчера был у Рефа. Гибиш, Пг., был очень мил и найдёт у нас применение. Фидирал-ла-ла, фидирал-лала, фидирал-лал-лал-ла! Члены цеха должны отъехать, может даже в Дахау. Чинда, чинда, чинда! Итак, Хайнеман, всё ещё привет охотникам? Каков был козёл, о скольки рогах? И раз-дватри! И раз-два-три! Туча поцелуев твоему сокровищу. А любит выпить Хайнеман, а, там-там-тарам! Гик-с! Помнишь квартал Гринциг? Хорошо было в жару!» Слушай, Израиль: господь, наш бог, един, а ты должен господа, бога твоего, любить всем твоим сердцем, и всей твоей душой, и всеми твоими мыслями, и изо всех твоих сил.