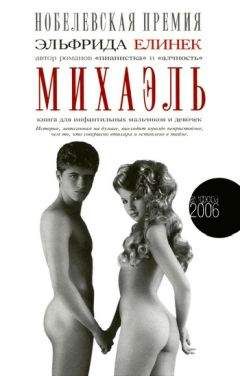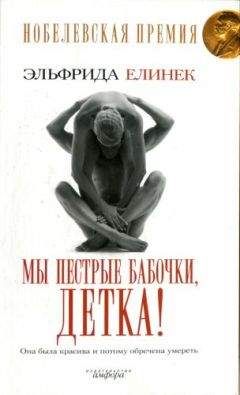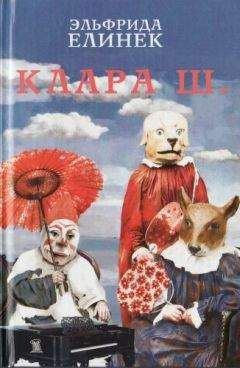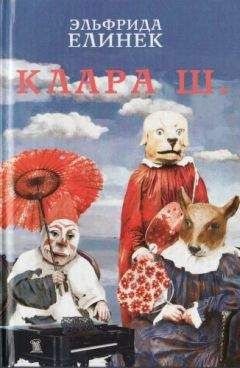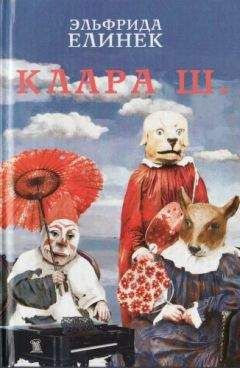Эльфрида Елинек - Дети мёртвых
Часто кровь бежит в нас целые дни напролёт, а мы этого даже не замечаем. Но если вдруг такое её количество вырывается с достойной удивления силой, как буря и гроза, то уж можно, хоть и сам в этом виноват, поневоле вспомнить в своей нужде про место, единственное, где кровь можно успокоить. На помощь, я истекаю кровью, кричит почти беззвучно Гудрун Бихлер — включите приёмники погромче, — из её горлового аппарата идёт лишь слабенький глухой тон, а поскольку Лесси сейчас нет дома, приходится ей, Гудрун Б., самой позаботиться о помощи. Она слышит деревянный стук подошв девушки, всегда одни и те же туфли в одно и то же время (к сожалению, это не бесшумные сандалии ловца человеков!) в коридоре, тем не менее что за спасительный слабый звук! Человек, который спешит к ней на помощь, спасение, больница, станция плачущих женщин иерусалимских — это ещё не конечная станция! Эдгар в своём весёлом оснащении «поверни и пей» давеча ведь протянул ей свою соломинку, но она не дотянулась, — я имею в виду, она была протянута вовсе не ей, может она и смогла бы возместить ей её потерю жидкости, если бы Гудрун полакомилась из неё, как знать, но кто не хочет, тот уже имеет. Кровь Гудрун барабанит по полу — ради бога, помогите же мне! — давление в сосудах Гудрун падает рапидом, одновременно ускоряется пульс. Сердце хуже снабжается кровью через коронарные артерии. В этой ситуации ЭКГ показала бы ишемию сердечной мышцы. А недостаточное снабжение сердечной мышцы опять же ведёт к ослабеванию пульса. Если давление крови и частота сердцебиения ниже критического значения, это ведёт к недостаточному снабжению мозга кислородом и сахаром. Потеря сознания. Смерть мозга. Самая пора, по крайней мере брачная пора, сочетаться с господом Иисусом, я тут вспомнила, вчера опять два человека сгорели заживо! Подумайте об этом, ибо медленнее бьющееся сердце может, даже без прогрессирующей аритмии, просто остановиться. Циркуляция крови и дыхание останавливаются, это может, если повреждён крупный сосуд, произойти за несколько минут. Шаги горничной приближаются, стук подошв уже совсем близко, у самой двери, бедняга, должно быть, целый день на ногах и бегом, вверх по лестнице, вниз по лестнице, из-за ничего и ни за что, но на сей раз беготня будет иметь смысл, и Гудрун может быть в последний момент воспроизведена, да? Наверняка девушка слышит её, Гудрун, сейчас ещё нет, она могла бы крикнуть и в окно, чтобы Эдгар или двое других парней сразу что-нибудь предприняли, но девушка ведь к ней ближе, сейчас она уже перед самой дверью, её деревенская чечётка уже добежала по коридору до неё, до Гудрун! На помощь! Спасите! Там, сразу за дверью, приветливая беседка, которая, конечно же, сразу примет Гудрун, и она из последних сил бросается к двери, распахивает её, чтобы кто-нибудь ей, Гудрун, перевязал руку, вообще-то ведь она уже в обмороке, почти мёртвая; так, вот дверь, сейчас мы её, но тут — что это бросается ей навстречу, страшнее, чем всё, что было до сих пор?
Стена из земли опрокидывается ей в лицо! Молодая женщина, которая вскрыла себе вены, сейчас будет галантно объята и принята её могилой в земле. Да, теперь вниз, к почве! Сейчас прибудет лифт!
За долю секунды до того, как ей распахнуть дверь, собственно прямо в ту же секунду, Гудрун вместо приветливо семенящих шагов деревенской девушки-горничной не столько услышала, сколько почувствовала неописуемый гул, всё заглушающий гром, канонаду, которую никак не могли вызвать деревянные подошвы горничной. Взревела буря, невеста ветра, кто-то сорвал у неё с лица чёрную вуаль, масса воды, которую невозможно себе представить, с жутким воем понеслась через сады, через все растения, деревья и плоды, которые должны были перед ней склониться, и хватило бы мгновения ока. чтобы увидеть, как восходит молоко в корове, вино в лозе и сахар в буряке, говорит бог. И поэтому земля не может по своему усмотрению просто забирать людей: до чего мы дойдём, если мы, люди, будем всё равно что капли на ведре с помоями! Так однажды придёт нам всем хана, дыра или её начинка. В оленьем обличье мается душа Гудрун, всецело во власти смерти как её добыча. Блуждает по земле, разыскиваемая злом; что от твоих родовых схваток. Отец, то ищет, как бы ему спастись от жестокого хаоса, и кто знает, как тут быть. Это приходит как пожар и поджигается каким-нибудь мальчишкой, как ничейный дом. Потом всё идёт сначала, но я не знаю что. Я посвящаю эти строчки моим мёртвым: деревянный топоток девушки исчезает за стеной из ЗЕМЛИ, его почти не слышно больше, он уже наполовину переварен. И ЗЕМЛЯ встаёт с трудом, тяжело дыша, во весь свой сверхчеловеческий рост, шахта из ЗЕМЛИ надвигается на Гудрун, которая в своём гробу спускается в могилу, с чудовищным грохотом, рёвом и стоном. В восстании дрожит почва. Две звуковые волны наползают друг на друга, выпрямляются во весь рост, шипят друг на друга, как змеи, но интерференции не возникает, а также ничего похожего; размах улёгся, как бич, отдыхать. Стеновидно и высокодомно ЗЕМЛЯ выламывается из своей клетки, обрушивается на Гудрун и снова складывается поверх её тела. Она прижимает уже угасающие запястья, которые она, в конце концов, сама и разрезала, к этой холодной хрящеватой плаценте, лицо, всё тело, тайну своего тела она, Гудрун Бихлер, открыла сама, причём лезвием бритвы. Что-то или кто-то, Гудрун больше не знает, что или кто, поспешно топочет прочь за земляной стеной могилы Гудрун, семенящим шагом оно бежит от этой — невзначай? — пролитой, присыпанной земной калитки, за которой плачет женщина, плачет, плачет и готовится на маленькую закуску для Ничто, раз уж она стала добычей. Где баночка с нарезкой паприки? Я хочу сказать, это всё прах земной, а если нет, то мы превратим его в прах. И также что не есть прах, всё равно когда-то к нему вернётся, что-то раньше, другое позже. Наши зовы выглядывают наружу, не пора ли, нет, у нас ещё есть немного времени. Другие, до нас, прикрутят к смерти снежные крепления и тогда совершат на неё восхождение. Сейчас мы им поможем. Иначе как им пересечь склон и нашу склонность к ужасу?
НИКАКОМУ ЧЕЛОВЕКУ не бывать островом блаженных, а стране это по силам. Страна имеет право на здания, в которых она выражает свою позицию. С тех пор как появились сети-авоськи, в них ловится более или менее людей, и тут позиция большого здания может стремиться к избавлению, это его право как основной структуры жительства: мелкие кусочки блевотины ловко выскакивают из дверей и прыгают в свои машины. Этот город, этот ландшафт такого выдающегося качества, что его не так-то просто перещеголять. Город, например, и по сей день магически притягивает к себе чужих, чуждых и даже наичуждейших, которым и я теперь вынуждена отвести место: они явятся ровно в десять, к началу экскурсии в пространство вакуума, так что у них вырвет биты из рук, поскольку мы всегда были биты лучше. Пространство вакуума, созданное здесь, обладает такой притягательной силой, скажу я вам, в принципе даже строительство не может по-настоящему заполнить это пространство; а где не хватает столько людей, туда мы и помещаемся, мы поселились в мёртвом городе, чтобы строения были приятно согреты внутри и не так легко опрокидывались. В зданиях, таким образом, тысячи обиженных, которые плывут в ореховых скорлупках (снаружи жёстких, а внутри — мягкое ядро!) по свинцовому озеру, полному зловонных сточных вод, отталкиваясь шестом, и хотя чёлн есть их собственная шкура, трофей для Ничто, который они, естественно, спасают в первую очередь, всё же он то и дело переворачивается. И они тогда увязают в металлической водной массе, как ложка в пудинге, выбираются, путаясь в своих и чужих ремнях. Заграница недостаточно нас питает! Она сама норовит прийти сюда и питаться. Поэтому мы выпроваживаем её домой или гасим фонари её жизни прямо здесь, у нас. В супе-пюре мы всегда плаваем поверху. И то, что мы не можем проглотить, мы по-собачьи зарываем в землю, чтобы провиант для гигантского пира, где снова будут поедать людей, сохранялся в бункере, защищенный от воздуха. Так точно. Всё под одну крышку! Левокруг-ом, правокруг-ом! На задние лапки, служить! Партнёршу — подкинуть и опрокинуть! Вот так хорошо.
Кольцевая дорога валится, как вязкий лавовый ток под нагрузкой нескольких трамвайных линий, и, под напором противоречивых течений нескольких тысяч машин, всё же с наслаждением переворачивается и подставляет брюхо первому мая, чтобы почесало, потрепало — по старой традиции. Можно пройтись или проехаться и по бокам. Эти минимальные условия описания и обихода я создаю себе лишь для того, чтобы обратить ваше внимание, что мы приближаемся к пункту, к которому мы точно так же могли подойти и пешком, если бы не жили так далеко… Наша порода выведена специально для прямохождения, поскольку из нас хотели произвести что-то получше, чем скотина. Но грацию из нас всё же изгнали, зато чувства гоняют теперь в наших душах беспрепятственно куда хотят, играючи, клыками рвут, мотая головой, последние остатки сострадания, вытягивая их из живота, куда мы отдали в раскройку наши мысли; они резвятся, как охотничьи собаки, эти чувства, которые иногда, ночами, нас терзают, потому что мы тайком подглядывали за богиней (по прозванию Истина) во время купания и ничего не увидали, потому что чечевицы наших контактных линз пустили на похлёбку. Мёртвые подставляют под наши подошвы усталые спины и в последний раз напрягают плечи, чтобы мы могли прочнее встать на них. Иначе как нам вкрутить в стены нашей горы все крюки, чтобы повесить на них людей? Пока мёртвые, развешанные, наконец, не будут расфасованы для потребления и мы не примемся за их потроха. Мясо должно отлежаться под нашими задницами, чтобы не было слишком жёстким. Мы так рады, что имеем право; этого не выдержать. Почему я это говорю? Передо мной раскрывается угрюмое, мрачное место, подвальный этаж так называемого культурно-исторического (наверху: этнографического!) музея, идёмте, взглянем, но не вблизи, у нас мало времени, мы ещё должны потом посмотреть в Штайнхофе законсервированные в стеклянных банках мозги, — итак, музей просто суперогромный, один только вход! В нём зал за залом, в них показаны разбитые формы человека. Можно увидеть, как они были задуманы, прежде чем смогли ускользнуть от нас и нашего насекомого яда. Увидев, что это нехорошо, мы, их боги, разбили эти красивые формы, но сделать новые руки так и не дошли. Так что этих людей здесь не могло быть и раньше. Но перед тем как их здесь не могло быть, мы их сфотографировали и обмерили, также и сроки их жизни, чтобы они ещё перед своей смертью узнали, как им нельзя было выглядеть, чтобы понравиться нам. Трудно сегодня поверить, каким шумом был охвачен этот город, и всё из-за людей, которые, на сегодняшний взгляд, имели нормальный, совершенно обычный вид. Сами не загаженные, руки не обжарены на вафельной решётке, никаких следов от палок, которыми их загоняли на тот свет, но ничего не помогло. Спасибо, ещё не пришлось платить почтовые сборы, ведь не мы посылали, а нас! Эти люди, бережно пересчитанные нашими материнскими заботливыми руками, были отправлены в летний лагерь, где работу давали бесплатно; РАБОТА: меньше! дороже! (как евробананы). Вначале они жили здесь, а потом марш за дверь. Эта дверь уже чуть не в вертушку превратилась. Сегодня мы возникаем, подобно кристаллам полупроводников, которые помогают быстрее отводить уже отдуманные мысли (а то бы мы были не только никогда не бывшими, но и никогда не думавшими быть!), в стерилизованном, пустом пространстве, вставленные в двусмысленность, которая одна удерживает нашу форму; да, мы всегда начальные существа, поскольку должны быть формой для других. Все как мы! Мы всегда являемся заново и всегда как новенькие. Всё лишь мы! Пусть это напомнит об истине: этот кричащий мир будет взвешен на самых новых детских весах, всё-таки мы — немцы! австрийцы! ледниковые мумии! — только мы поём так, что лопаются струны. Медлительные лица поднимаются в ночи, из которой мы сосём чёрное молоко поэта и потом срыгиваем, потому что и одного глотка было слишком много, — молоко, которое, кажется, пугает даже наше кудрявое дитя — истину, хотя это молоко есть наш чистейший натуральный продукт, который мы, стоя на коленях перед Европой, хотим ей преподнести. Слишком много плача у дитяти. Надо бы этого посиневшего младенца Истины со слишком узкими сердечными сосудами слегка придушить нашими телами, лишь бы он не вырос.