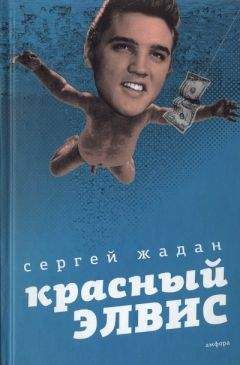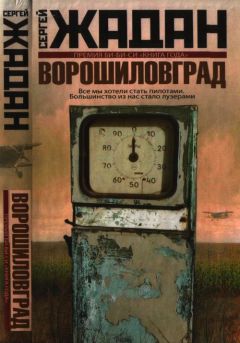Сергей Жадан - Anarchy in the ukr
Наконец капитан успокоился, ну что, спросил он, хотим спать? Мы не ответили — на нас были противогазы. Хорошо, уступил капитан — бежим двадцать раз вокруг плаца, в противогазах, я сказал в противогазах! и можно идти спать. Мы побежали. Он стоял в центре, а мы бегали вокруг него в противогазах, как боевые карфагенские слоны. В какой-то момент я обломался и незаметно открутил трубку противогаза от фильтра. Дышать стало гораздо легче.
Июнь в том году был теплым и солнечным. Мы ежедневно маршировали на плацу, потом ели в столовой вонючую кашу, вконец зачморили нашего одноклассника, после обеда снова маршировали; мы вытоптали траву на футбольной площадке и научились сливать из тракторов соляру, чтобы перепродавать ее колхозникам. На полученные деньги мы покупали консервы и табак. В девять вечера была политинформация, мы смотрели новости, после чего капитан загонял нас в общежитие, а сам шел в штаб бухать. Он еще больше похудел и потерял где-то свою фуражку. Однажды он привез нам настоящего гэбэшника, для политвоспитания. Гэбэшник никому не понравился — он понтовался, говорил о борьбе с внутренним врагом и вместо понятного нам «америка» выговаривал с каким-то дурацким прононсом — «юнайтед стейтс». Капитану он тоже не понравился, капитан относился к нему подчеркнуто холодно — мол, я под реактором коптился, а ты, пидор, боролся тут с внутренним врагом, юнайтед стейтс твою маму. Я впервые посмотрел на капитана с уважением.
В ту ночь я стоял на вахте. Сменить меня должны были через несколько часов, утром. Вдруг двери штаба открылись и оттуда вышел капитан Кобылко. Стоишь? спросил он, подойдя. Стою, сказал я, думая, что за хрен, что ему надо. Пошли, коротко сказал капитан и повернул к штабу. Я обреченно побрел за ним. В штабе лежал упившийся в дымину гэбэшник. На столе стоял спирт. Капитан взял алюминиевую кружку и налил. Держи, протянул мне, ты молодец. Давай пей. Я выпил. Выпил? спросил он, выпил, ответил я, а теперь иди отсюда на хуй. Я пошел. Нормально, думаю, хороший мужик капитан Кобылко, хоть и ебнутый.
В последний день сборов капитан повез нас на полигон. Внимание, сказал он, ублюдки, у каждого из вас по калашу и по два рожка боевых, блядь, патронов. Вперед. Мы попадали в траву и начали стрелять по мишеням, что стояли метрах в пятидесяти. Я целился и пытался не тратить патроны зря. Капитан стоял надо мной и смотрел в бинокль за моими результатами. Неплохо, крикнул он мне, неплохо, а теперь давай очередью! Патронов жалко, ответил я ему, боюсь, что не попаду. Да ладно, капитан распалился, давай, всади очередью, хули ты! Я посмотрел на него снизу — он стоял решительный и заведенный, кровь била ему в голову, как солнце на пляже, и я вдруг понял, чего он от меня хочет, молча переключил автомат с одиночного и запустил первую очередь. Давай! крикнул мне капитан, давай, вали! Я прижал приклад к плечу и выпустил остатки рожка, вставил следующий и так же быстро его расстрелял. Я садил по мишеням почти не целясь, мне хотелось сделать ему приятно, я просто бил боевыми патронами по воздуху, по песку, по мишеням, выбивая свои сто из ста, расстреливая всех своих подростковых призраков, которые стояли передо мной в июньском воздухе, бил длинными очередями за каждый из потерянных на этих сборах дней, за все свои обиды и укоры совести, за своего, блядь, капитана, который стоял надо мной и зачарованно смотрел на изрешеченные пулями мишени. Вокруг меня рос густой молочай, птицы испуганно кружили в меловом небе, патроны закончились, гильзы были горячими, губы сухими, лето бесконечным.
90-йКрыши. Я схватился за ветку и подтянулся наверх. Ствол был холодным и жестким. Обняв его руками, я полез. Схватился за следующую ветку, перебросил через нее ногу и снова подтянулся. Рукой уже можно было достать до шифера. Я осторожно поднялся на ветке, чувствуя, как она прогибается под моими ногами, прогибается, но держит, забросил локти на шифер, еще раз подтянулся и перекатился по плоской поверхности. Осторожно поднялся и двинулся вперед, почти вслепую. Небо было в тучах, впрочем, мне именно это и было нужно. Главное не забыть, что я не совсем трезв и что я на крыше, что ступать следует осторожно и тихо, если внизу кто-то услышит, меня отсюда снимут прямо в отделение. Дальше была стена, я подпрыгнул и попробовал схватиться за верхний край, но не удержался и завалился на спину, черт, подумал я, не хватало еще разбиться здесь по пьяни. Я поднялся, колено ныло, подпрыгнул еще раз. Подтянулся на руках и заполз на выступ крыши. Медленно пополз вверх, встал на ноги и осторожно пошел к краю, нужно было пройти метров двадцать, хорошо, что так темно, снизу меня никто не увидит, я тоже тут ничего не вижу, главное вовремя остановиться. Через пару метров крыша обрывалась. Я сел на шифер и медленно стал пододвигаться к краю. Заглянул вниз. На площади горела пара фонарей, кажется, пусто, в любом случае даже если бы там кто-то был, я бы его не увидел. Передо мной лежала августовская тьма и висел флаг. Я потянул его на себя. Древко было прибито к крыше. Я потянул сильнее. Флаг затрещал и поддался. Я вырвал его вместе с гвоздями и начал срывать полотнище. Сорвав, спрятал в карман, из другого кармана достал свой флаг и начал привязывать к древку. Получилось не совсем эстетично, но снизу, я так думал, все будет выглядеть как нужно. Я стал цеплять флаг на место. Не совсем крепко, но он все же держался, крепко и не нужно, подумал я, — все равно завтра сорвут. Осторожно повернулся и пополз назад, подлез к стене и на руках опустился вниз. Пробежал по шиферу, нашел свое дерево и начал медленно спускаться. Встал ногами на ветку, она не выдержала и надломилась. Я полетел вниз, свалился на землю, перекатился, быстро вскочил и побежал в ближайший переулок. Отбежав пару кварталов, подошел под фонарь. Джинсы на колене прорвались, из раны текла кровь. Я достал из кармана трофейный флаг, оторвал от него кусок и попробовал перевязать рану. У меня не очень получилось, флаг пропитался кровью, вся эта конструкция на ноге не держалась. Черт, подумал я и выбросил окровавленный кусок куда-то в траву. Это ж надо, подумал я, джинсы порвал, на хуя было пьяным туда лезть; я проклинал себя и проклинал своих друзей, которые меня на это подбили, тоже мне, злился я, молодогвардейцы нашлись, комсомольцы, блядь, на амуре.
Взрослая жизнь захватывала и отпугивала одновременно. Пришел день, когда я внезапно начинал понимать, что мир не настолько продуман, как казалось в семь лет, что пространство дозируется кем-то и что мне, как и остальным, придется, очевидно, играть по выдуманным кем-то правилам. Взрослая жизнь кривлялась, и гримасы ее ничего хорошего не предвещали. Все, что воспринималось удобным, надежным и обжитым, как мои вратарские перчатки, во взрослой жизни оказалось не вполне пригодным и совершенно не обязательным. Открывалось что-то большое, темное и необычайно захватывающее, как будто свет в кинотеатре гас и сейчас должны были показать что-то ужасное, к чему я был совсем не готов, но от чего я ни за что бы не отказался. Прошлое осталось в ящиках старых столов и на книжных полках, теплым пеплом залегало в фотоальбомах и зачитанных до дыр журналах, оно хранилось боевыми хоккейными клюшками на антресолях и в гаражах, покрывалось пылью в шкафах с одеждой, где лежали свитера и футболки, из которых я вырос. К нему еще можно было прикоснуться, ощутить пальцами его грубую ткань, но кто бы стал этим заниматься, конечно, никто. Наша взрослая жизнь по какой-то случайности совпала со странными и болезненными вещами, что происходили вокруг и, на первый взгляд, нашего взросления не касались. Но так случилось, что именно в этот горький период, когда все в тебе рвется и срастается по новой, вокруг нас произошло что-то подобное, и мы вынуждены были смотреть, как взрослая жизнь уничтожала нашу страну, как она ломала наших родителей, как она выбрасывала из себя всех лишних и ненужных, всех, кто так и не понял, что же на самом деле происходит, Полезен ли был этот опыт, думаю я теперь. Не знаю, не уверен, я вообще не согласен, что всякий опыт полезен, по-моему, это преувеличение, ведь очевидно, что можно целую жизнь прожить возле моря и не видеть утопленников. А в наших территориальных водах трупов становилось все больше.
На последнем году учебы мы с несколькими друзьями взломали замок и вылезли на школьную крышу. По понятным причинам вход этот всегда был закрыт, что нас не устраивало. Мы нашли пожарный топор, подсадили им тяжелый навесной замок, двери открылись и мы по очереди в них прошли. На крыше жили птицы. Много птиц. Они сидели на поперечных балках, весь пол был усеян их перьями и гнездами. Они сидели длинными рядами, тесно прижавшись друг к другу, и внимательно нас рассматривали. Мы двинулись вперед, шли осторожно, чтоб не наступить на гнездо, давя кедами и кроссовками сухой птичий помет, смахивая с лица налипшую паутину. Вдруг кто-то наступил на старую доску, которая под ногой у него сухо треснула. Это прозвучало как взрыв. Птицы поднялись в воздух, они летали между нами густой толпой, огибая нас и лишь иногда задевая крыльями, лихорадочно ища выход, бросались из одного угла в другой, воздух тут же наполнился их движением, их голосами, их было так много, что мы удивленно остановились и смотрели снизу на это пространство, плотно заполненное птицами, уже тогда догадываясь, что не так уж и часто встречаются такие сгустки времени и такие участки пространства, в которых было бы так много птиц, так много друзей, так много движения и покоя.