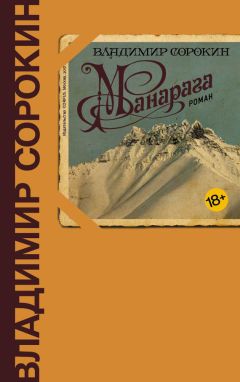Роман - Сорокин Владимир Георгиевич
– Целым! Целым и неприкосновенным!
– Да как угодно! Правда, Ромушка?
– Ковриком! Очень мило!
– Тюфячком!
– Окрошкой! Антибуржуазной окрошкой!
– Целым, целым, как Антон Петрович!
Но Антон Петрович вдруг приложил палец к губам и показал глазами на отца Агафона, который, склонившись к тарелке, ел свой блин, отрывая от него кусочки и макая их в сметану. Одновременно он поддакивал спору, хоть глаза его, рот и руки были заняты совсем другим, а также бормотал какие-то забавные одобрения по поводу блинов и сметаны.
Когда голоса спорщиков стихли, все услышали это милое бормотание:
– Ох… тюфячком, что ж, можно и тюфячком… а можно и ковриком… блинцы-то и так блинцы… ох, и так блинцы… и сметанушка… всем сметанам сметанушка… вот как, слава тебе, Господи…
Вдруг, почувствовав тишину, он поднял голову. На бороде его были следы сметаны, он быстро, по-заячьи жевал, в маленьких глазках светилось удивление.
– Вот как надо есть блины! – громогласно заключил Антон Петрович, и все дружно засмеялись.
Батюшка долго вертел головой, дожёвывая блин, потом стал подсмеиваться своим тихим мелким смешком. Насмеявшись, все с аппетитом приступили к блинам. Роман же совсем не ел и смотрел на Татьяну, ловя каждое движение её лица и рук. Сразу заметив его взгляд, она смущённо отложила нож и вилку и, взявшись рукой за его кисть, стала смотреть ему в глаза.
В такие мгновения Роман забывал про всё, мысли покидали его, он целиком отдавался этим бездонным глазам, погружаясь в их светоносные глубины, лучащиеся бесконечным светом любви…
А вокруг стоял шум застолья, гости и хозяева оживлённо разговаривали, шутили и смеялись, чувствуя себя явно помолодевшими. На лугу тоже вовсю шло пиршество, звучал смех и громкие женские голоса, звенела посуда, девки в сарафанах несли к столам вёдра с творогом и пареной репой, мужики катили бочку с квасом.
“Как всё весело, просто и чудесно! – думал Роман, отводя глаза от лица жены и бросая взгляд на луг. – Разве могло это произойти в столице, разве возможно было бы среди тамошних пошлости, лицемерия и высокомерия испытать это чувство единения с народом, ощутить свою радость, отражённую, как в зеркале, в чистой народной душе? Нет, нет! Я тысячу раз прав, что выбрал этот уголок своим домом, что порвал с городом, что оказался здесь. Здесь, где ждал меня мой народ, где ждала меня она, моё светлое, моё единственное чудо…”
Среди общего пиршества Куницын встал с бокалом вина и с мягкой усталой улыбкой на лице стал ждать тишины.
Когда она наступила, он заговорил тихо, но взволнованно, опустив, по своему обыкновению, голову и перебирая пальцами по бокалу:
– Дорогие друзья. Никогда ещё за всю свою жизнь я не чувствовал большей потребности поделиться своей радостью, как сегодня. Мне трудно говорить, я не привык, но нет сил молчать о моей радости, и вы простите меня, но я должен, должен сказать…
Он помолчал, волнуясь, и продолжил:
– Друзья, моя жизнь складывалась сурово. Я рано потерял родителей и практически большую часть жизни провёл в полку. Тяжела армейская служба, но крепки узы офицерского товарищества, и пожалуй, только в дружбе знал я душевную опору. Но и радость полковой дружбы отняла у меня судьба. Мой самый близкий друг – Матвей Семёнович Холодов – погиб, и опять душа моя погрузилась во мрак одиночества. Я женился, но и здесь семейное счастье моё продлилось недолго – смертельная болезнь оборвала жизнь моей супруги… Но нет, нет! Простите! Простите! К чему эти тяжкие воспоминания теперь, когда всё по-другому, когда я чувствую себя словно заново родившимся! И не только потому, что дорогое дитя моё, Танюша, нашла свою любовь, своего сердечного друга. Я чувствую себя заново родившимся ещё и потому, что здесь теперь встретил всех вас и полюбил как родных. Как родных! И это не преувеличение, поверьте, поверьте мне! Я много пережил и знаю цену чувству родства. И сейчас, здесь, перед вами от всего сердца хочу сказать вам, всем присутствующим: во всём мире для меня не было и нет людей ближе и роднее вас! Я… я люблю вас, дорогие мои!
Его голос дрожал, дрожала и рука, сжимающая бокал.
Мгновение все сидели молча под впечатлением взволнованного монолога лесничего, затем восторженные крики и рукоплескания заполнили террасу, многие повставали со своих мест и, подойдя к Куницыну, стали целоваться с ним.
– Виват, виват полковнику! – крикнул Антон Петрович, поднимая бокал и тяжело выбираясь из-за стола.
– Виват! – протяжно закричал Красновский.
– Виват! – произнёс, вставая, Роман.
– Виват… – пробормотал Клюгин, одной рукой берясь за рюмку, другой вытирая салфеткой испачканный сметаной рот.
– Ах, душа любезный! – Дядюшка подошёл к Куницыну и трижды поцеловался с ним. – Мы с тобой в одних летах, дети наши обвенчаны, но и это – не всё! Душой, душой мы с тобой родня навеки, дорогой мой человек! Душой и характером русским!
Они обнялись.
– Ура! – закричал Красновский, и все подхватили.
Крестьяне, завидя, что гости славят лесничего, тоже закричали “ура” и стали выпивать.
Антон Петрович повернулся к лугу и негодующе спросил:
– Постой-ка, мужики! А что ж это у вас за свадьба за такая?! Где ж песни да пляски молодецкие?! Что ж это вы, как старухи вековые, сидите да едите?! Иль вам лапти ходу не дают, лыки ж… достают?!
Громкий хохот раздался на лугу.
Крестьяне повставали со своих мест, оживились, задвигались.
Из их толпы выдвинулся Фаддей Кузьмич Гирин и, степенно огладив бороду, шагнул к террасе:
– Так мы, Антон Петрович, стало быть, боялися песни играть, думаем, а как помеху создадим?
– Помеху? – негодующе тряхнул головой Воспенников. – Ну, Фаддей Кузьмич, от тебя я такой глупости не ожидал! Песней – и помеху?! Ах вы, черти! А ну – сдвигайте прочь эти столы! Русская свадьба – и молчком! Мы что – англичане, что ли? Сдвигать столы прочь! И чтоб – лубяная кадриль да лыковой перепляс!
Крестьяне дружно взялись за столы, за лавки и потащили их в стороны.
– Бабы! – не унимался Антон Петрович. – А вам как не стыдно?! Ну коли мужики умом не вышли – вы-то что молчите?! Разве свадьбы так играют?! Вы же православные женщины, лучшие представители слабого пола!
Бабы засмеялись и заговорили что-то наперебой в своё оправдание, но Антон Петрович затряс головой:
– И слушать ничего не желаю! Сейчас же исправить оказию! А то – не переживу позора, уйду со свадьбы в монахи!
На террасе все смеялись.
Крестьяне же зашевелились так дружно, как будто только и ждали призыва Воспенникова: вмиг столы и скамейки были сдвинуты к кустам и деревьям, а на лугу осталась только одна лавка. На неё уселись три бессменных крутояровских музыканта: гармонист Яшка Гудин, балалаечник Иван Панинский и ложкарь Сенька Костючков по прозвищу Вахлак.
Держа в руках своих инструменты, музыканты весело, но в то же время с серьёзной решительностью посмотрели вокруг на обступившую их полукольцом крестьянскую толпу.
Этот момент выжидания был всем хорошо знаком, и подбадривающие крики горохом посыпались на музыкантов:
– Жарь “Барыню”, Яша, не сумлевайся!
– Играйте, ребяты, попотешьте старичков!
– Давай, Ванька, дуй “Камаринскую”!
– Эва, Сенечка, тряхни по коленкам!
– Играй-наворачивай, а мы попляшем!
Музыканты переглянулись, скуластый, коротко стриженный Яшка мотнул головой и растянул меха трёхрядки. Музыканты грянули “Светит месяц”. Эта простая и в то же время до удивительного завораживающая каждого русского мелодия отозвалась в душе Романа почти детской радостью. Сколько раз, выйдя вечером к реке, слышал он эти берущие за сердце переливы гармоники, распускающиеся над полусонной водой незримым русским узором!
И теперь этот узор растянулся вместе с мехами трёхрядки и поплыл, поплыл над лугом, кружась и плавно переливаясь цветами, словно праздничный девичий сарафан.
– Давно бы так! – крикнул Антон Петрович.
Гости подошли и встали с краю террасы, Роман пропустил вперёд Татьяну и встал сзади, осторожно обняв её ладонями за локти.