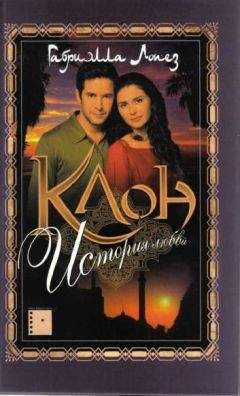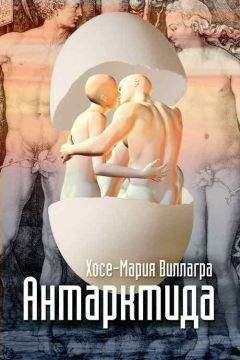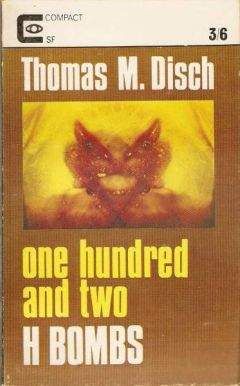Джозеф Коннолли - Отпечатки
— Так что валяй, Поли, — гони мою треть, и я пошел. В смысле — ничё такого не думай, общаться, конечно, будем. Но, по-мойму, пришла пора мне поработать. Сечешь? Попрактиковаться.
— Ну, это ради бога, Тычок, — но как я тебе отдам треть того, что еще не продал? А?
— Так подели банкноты, бля! Черт побери — мы и так целую вечность уже тянем.
— Нам нужно тянуть. Сам знаешь. Они слишком новые. Опасно.
— Ну, блин, я рискну. Просто отдай их мне, Поли, и я пошел.
И я вам прямо скажу — я об этом думал. Я думал, да, может, он и дело говорит, старина Тычок: может, мы достаточно уже тянули. Пустим их в ход помаленьку, одну за другой… да, может быть. Так что я вытащил их и, типа, хорошенько поглядел, и, господь всемогущий, — говорю вам, ребята, хорошо, что я это сделал. Потому как они были неправильные. Все до одной. Раньше я не замечал — ни разу не замечал до этой самой минуты. Но как-то умудрился (прежде я никогда не портачил по этой части) пропустить серийный номер внизу. А переделывать их нельзя, сами знаете: что сделано, то сделано. Я сказал Тычку и… ну не знаю, сначала он, небось, решил, что я лапшу ему на уши вешаю. А когда своими глазами увидел, едва не рехнулся. А потом сказал: да какая разница — скупщик, сказал он, ни хрена не заметит, пока Тычок благополучно не смоется. Да? говорю я. А потом он что сделает, Тычок? Мозгой-то пошевели, сынок. Или копам настучит, или мальтийцам, или косоглазым — уж кто-нибудь да схватит тебя за руку. А? Подумай хорошенько, сынок. Да. Ну и вот. Мы их жжем. Вот и все. Вот прям сейчас и сожгли. Поэтому я Тычку отдам все, типа, паспорта, удостоверения личности и прочую мелочевку (они-то в порядке — они пойдут в дело), а потом отдам его долю, когда мы продадим этот бордель. Потому как я собираюсь его загнать, и поскорее: Бочка начинает зудеть, и вообще. Говорит мне, он мне говорит: мне больше нечего делать, Поли: мне больше нечего тут делать. Бедолага: и такой грустный при этом. А я? Что ж, я здорово переживаю, скажу вам по правде. Потому что я этот наш дом люблю. Но я должен его продать, нравится мне или нет. Вы и сами все понимаете. Так что не знаю пока, вот и все, что могу вам сказать. И, я прикидываю, я не один такой. Тут что-то странное в воздухе в последние дни. Новый год на носу, понимаете, — и все очень нервничают, если хотите знать мое мнение. Как Майк. Старина Майк. Поболтал с ним недавно (но не говорил ему, что с Уной творится: ясен день, не говорил — за кого вы меня принимаете?), его здорово колбасит, старину Майка. Он мне и говорит, говорит мне:
— я поражен, Пол. Глубоко поражен. Тем… боже, — кем я оказался. В смысле, никогда толком — не знаешь, да? Пока не попадешь в переплет. Идешь себе по жизни со всеми своими маленькими слабостями и хобби, по полочкам разложенными мнениями и любимыми книгами, и прочей ерундой, которая тебе, дураку, нравится или не нравится, и начинаешь, ну не знаю… начинаешь думать, будто эти вещи, они как бы определяют тебя. Что все эти вещи — и есть ты. Ты становишься ограниченным, я вот к чему, Пол. Ограниченным, толстым и ленивым. И таким, блин, до фига самодовольным. Вот что со мной случилось. Меня опутало все это… барахло. Все эти остатки жизней, которые взаправду были прожиты. Людьми, которые достойны так называться…
— Хватит, Майк, — хватит себя мучить, — мягко сказал Пол. — Мы все не идеальны. И не надо наезжать на твои первоклассные вещи. В жизни не видел такой замечательной коллекции.
— Да, но ведь это только барахло, правда, Пол? Гм? В смысле, это всего лишь охрененно большая коллекция барахла. Подержанное старое барахло, которое… ну, все это вне меня, да? Забавно, что я никогда этого не замечал. Ничто из этого ни в малейшей степени не имеет отношения к тому, что я на самом деле есть. В смысле… послушай, Пол, извини, если я немного — ну, знаешь, перебарщиваю, — и пожалуйста, не думай, будто я снова заплачу, нет, потому что, если честно, во мне, по-моему, ни единой слезинки не осталось, честное слово… просто… ну, мне кажется, я могу с тобой поговорить, Пол — что ты поймешь, ну — хоть что-то. И я знаю, ты ценишь — вещи, барахло. Мусор. Это Уна так сказала, знаешь. На днях. Мусор, сказала она. Она столько лет провела среди них — жила ими, если хочешь… и тут вдруг поворачивается ко мне и спрашивает: ну, что ты теперь будешь делать, Майк? Со всем этим мусором?
— Не стоит. Не забивай себе голову Уной, старина. Она все это любит, Уна.
— Что ж. И я так думал. Но ты видел, да? Как она — била и пинала меня. Я весь в синяках, да. Понимаешь, я думаю, может, дело во мне. Пол. Не в вещах. Может… раньше, ну — я был почтенным хранителем этого старого поколения, великого поколения: поколения людей, сражавшихся на войне. Сам же я ни с чем не способен сразиться, Пол. Я просто разваливаюсь на куски. Мне невыносимо то, что происходит здесь и сейчас со всеми нами. Я не знаю, что с нами станет. Иисусе — если б я жил во время войны, ну — я бы недолго протянул. Меня бы пристрелили за трусость. И правильно бы сделали. Совершенно правильно. Я опустошен, Пол: внутри ничего не осталось.
— Итак. Ты поговорил с ней, да? С Уной? О том, что ты чувствуешь?
— Нет. Вообще-то нет. Не поговорил.
Да уж, подумал Пол: я так и думал. Потому как я поговорил. И лучше тебе, Майк, не знать, чё она говорит. О боже, о боже, о боже…
— По-моему, она вообще-то больше не со мной, — несчастно продолжал Майк. — Боже. Я никогда… никогда не думал даже, что услышу, как такое говорю. А в постели, знаешь, — о господи, прости, Пол, — прости. Я не должен говорить тебе — переваливать это на тебя, но… я не буду, понимаешь, вдаваться в детали и так далее, но у нас с Уной, ну — у нас были свои маленькие, знаешь, — ритуалы, скажем так. Своего рода маленькие — игры, в которые нам нравилось играть. Уверен, ты — ну, понимаешь. Ладно. А сейчас, ну — ничего. Ни хрена. Наверное, это потому, что она чувствует — она, Уна, должна чувствовать, что я — опустошен. Сегодня ночью — Иисусе, я спал один на софе — ну, знаешь, на этой нашей софе, — и у меня была моя любимая фантазия… мне так неловко все это говорить, Пол, но… ну, ты знаешь Фрэнки? Да? Фрэнки, которая с Джоном? Ну конечно ты знаешь — конечно. О чем я только думаю. Ну так вот, ладно, короче, я… я типа, представлял, что она — одна из сестер Эндрюс: ну, знаешь, американская форма и все такое. Юбка-карандаш. Китель. Маленькая шляпка. Это всегда меня заводит, честно говоря. И. Ночью. Ничего. Вообще ничего. Ни хрена. Опустошен. Я опустошен, понимаешь. Я абсолютно, абсолютно пуст…
Гм, подумал Пол: да ты не только с Уной не говорил, старина, ты и с Джейми парой слов не перекинулся. Говорят, если снять с нее американскую форму, тебя ждет большой сюрприз, сынок. И, судя по твоему виду, он тебя окончательно добьет, кореш. Да. На случай, если кому интересно, как так получилось, что Джейми, типа, проболтался — ну, думаю, он знал. Что мне будет интересно. Мы с Джейми неплохо друг друга понимаем (мне так кажется). Но возвращаясь к тому, что говорит Майк, ну — я ж говорю, если вспомнить, чего Уна мне понарассказывала, бедняга, я так прикидываю, не сильно ошибается.
Я как раз вернулся от своего приятеля, знаете, — у него своя автомастерская на Майл-Энд-роуд. Сказал мне, мол, да — он починит «алвис» старого Джон-Джона, нет проблем — мигом станет как новенький, вот что он мне сказал. Потому как Джейми, господи боже мой, — он разнервничался будь здоров (аж на месте подскакивал). «Он просто с ума сойдет! — орал он. — Джон вернется, увидит это — он просто рехнется, и будет прав!» Я сказал ему, расслабься, сынок: я знаю пацана одного, ясно? Дело в шляпе, кореш. И не спрашивайте меня, как он вообще, старина Джейми, умудрился повредить тачку, потому как насчет этого он молчит как рыба. Ладно — пофиг. Приятель сказал, ему нужно два дня (максимум три) — а я говорю, вот и прекрасно, потому как с Джон-Джоном вышло так, что он сейчас отдыхает в одном модном месте по дороге в Суррей, вернется в пятницу — это мне Фрэнки сказала. Хотя с ним все хорошо — он выкарабкался, наш Джон-Джон. Говорю вам — он еще нас всех переживет, старый хрен.
Итак. Короче, я только вернулся, да? И думал себе, мм — пойду-ка на кухню, может. Бочка сготовит нам чего-нибудь съедобного — потому как я умирал с голоду, чесслово. Крошки во рту не было после шоколадных хлопьев на завтрак. Да. Ну ладно, я шел себе, да, и внезапно на меня налетела Уна, вся в растрепанных чувствах, мол, поедем, Пол, — пожалуйста, Пол, — мне надо поговорить с кем-нибудь: хватает меня за руки, а глаза огромные, как колпаки колеса (это небось потому, что я как раз видел эти самые колпаки на стенке у кореша в конторе). Да, ну лады тогда, Уна, говорю, — не суетись под клиентом, подруга: твой дядя Поли здесь, верно? А? Давай, завари чайку, крошка, и выкладывай. Хорошо? Вот и славно. Я дело говорю, сама знаешь.