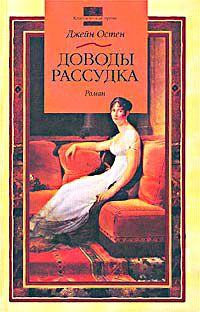Максим Жуков - П-М-К
День выдался хоть и жарким, но каким-то переменно-облачным. Солнце то выглядывало из-за туч, то снова в них пряталось. Примерно через час, разобравшись со всеми делами на работе, я попробовал дозвониться жене: сказать, чтобы ждала и приготовила поесть, а то вечно у нее обеда не дождешься…
Напрасный труд. Дома сплошняком было занято. После десяти минут бесплодных попыток я попрощался с коллегами и поспешно двинул в сторону дома. На улице как-то распогодилось, тучки растворились, и солнышко стало активно накалять кривой московский асфальт, вот уже несколько десятилетий плохо укладываемый «понаехавшими» из дальних краев распиздяями.
Когда я открыл входную дверь и увидел жену все еще оживленно треплющуюся по телефону, я еле сдержался…Ну сколько можно?! На самом-то деле. И Калигула, небось, не мыт, не чищен!
Жена показала «Викторию» из двух пальцев: все, мол, еще пару минут и заканчиваю. Это меня несколько успокоило, но лишь до того момента, пока я не увидел банку с Гаем, выставленную за окно и попавшую под яркие лучи августовского полуденного солнца.
Это был «не полный абзац» и даже не полный пиздец: это был самый настоящий безжалостный АД заоконного яростного солнцепека…
Оцинкованная жесть. Прозрачное стекло. Открытое место.
Калигула лежал на боку, глаза его были закрыты, шерсть покрылась предсмертной испариной… No сomment. Помочь ему было уже нельзя. Я взял банку и осторожно поставил ее на холодильник. Через минуту на кухню вошла, позевывая и потягиваясь, наговорившаяся по телефону жена…
— Алена, подойди ко мне.
— Да ну тебя, мне обед готовить надо…
— Иди, иди. Вот сюда, к подоконнику.
— Это зачем?
— Ну, подойди. Подошла, молодец. А теперь вытяни руку за окошко и положи ее на ящик.
— Ой, горячо-то как! А… Кали…
Я снял еще теплую банку с холодильника и поставил перед ней на стол.
…так не плакал даже я на похоронах своего дедушки…
Наполнив стакан водой, я накапал туда валокордина и заставил ее выпить эту херню до самого дна.
— Единственное, что могу добавить, Алена, — умер он в страшных мучениях… прыгал, наверное, перед смертью, как грешник у черта на сковороде… Меньше надо по телефону трепаться с заместителями всякими — совраскиных главных редакторОв.
— Мне хотят материал серьезный доверить, для статьи… надо было все обсудить, все выяснить.
— Ну, можешь перезвонить ему и доложить, что у тебя уже есть один «серьезный материал» и даже рабочее название к нему: «Как я зверски замучила и убила Гая Юлия Цезаря (по кличке Калигула) из династии Юлиев-Клавдиев». Не очень длинно для передовицы, кстати?
Тут я бы кое-что уточнил. Два дня назад у нас в гостях побывал один «видный эксперт по грызунам», и после того как мы с ним распечатали третью бутылку, осмотрев нашего Гая, так сказать, с ног до головы, он, голосом не терпящим возражений, авторитетно заявил: А Калигула-то ваш — девочка…
Я не очень-то ему поверил (на рынке нас полчаса уверяли, что это мальчик), однако жене сказал:
— Вот видишь, если бы мы его Клавдием нарекли — могли бы сейчас хотя бы в Клаву переименовать. А так, — хули теперь с ним делать?
Что ж, делать теперь действительно было нечего. Я взял банку и отправился к ближайшему от нашего дома мусорному контейнеру. Будем расценивать как несчастный случай. Вот и все дела.
Я видел бабу Раю в последний раз на поминках, через год после смерти деда. Посидели, вспомнили его несносный характер, первые проявления которого, в тайных и загадочных хитросплетениях собственной души, я начал замечать уже с самого раннего детства…
На поминках, слава Богу, не было ни дальних родственников, ни суетливых ветеранов, произносящих псевдопатриотические тосты и картинно пускающих «скупую мужскую слезу». Закончилось все мирно. Почти без слез и причитаний.
Потом мы несколько раз говорили с ней по телефону. Она предлагала сходить на кладбище — «проведать деда»; делилась планами переезда с дочкой от первого брака в ближнее Подмосковье. Природа: грибки, ягоды…
Я выразил сомнение в том, что в ближнем Подмосковье сейчас намного лучше с экологией, чем собственно в самой Москве; признался, что развожусь со своей; что развод проходит как-то крайне неорганизованно и нервно; и что ближайшее время не смогу составить ей компанию…
По-моему, она даже не обиделась.
Ничего не попишешь: мы с ней чужие люди, и то, что нас связывало когда-то — медленно, но верно
уходит все дальше и дальше, путаясь в обрывках воспоминаний,
и выгорая на солнце,
как позолоченные буквы на могильной плите,
в той плохо ухоженной части «Хованского» кладбища,
где расположен старенький колумбарий
с прахом моего
горячо любимого и
до сих пор живущего
в самых потаенных глубинах моей памяти -
деда.
Такой вот ПЛЕШ-МУДЕ-КРОНШТЕЙН.
Объект «Кузьминки»
Встретили меня по одёжке.
Проводили — тоже плохо…
Я стою при входе в зал игровых автоматов, в тени подъездного козырька. Я стою и рассматриваю фасад старой хрущевской пятиэтажки, выстроенной, как абсолютное большинство домов в это микрорайоне, тридцать с лишним лет назад. Я рассматриваю данный фасад чрезвычайно внимательно и увлеченно. Увлеченностью этой я обязан одному недавно сделанному спонтанному умозаключению: почему, собственно, я, изучая со стороны этот ободранный, малопригодный для жизни курятник, называю его старым? Ему, если вдуматься, столько же лет, сколько и мне, он возможно даже на пару лет младше меня, что, по сути, ничего не меняет в сложившихся обстоятельствах…
Мы, можно сказать, РОВЕСНИКИ.
И это страшно само по себе…
Не смотря на цветущую весеннюю яблоню, раскинувшую свою кипенно-белую крону на уровне второго этажа, и на покрашенную на днях миниатюрную ограду у подъезда,
общий вид облупившихся балконов, обшарпанных стен и покосившихся входных дверей производит на меня тягостно-удручающее впечатление. Хочется схватиться за свое лицо и, отыскав где-нибудь поблизости зеркало, тщательно и беспристрастно рассмотреть свое отражение. Все ли нормально? Все ли у меня хорошо? Не расходятся ли в углах моих глаз глубокие старческие морщины, словно страшные потемневшие от влаги трещины за угловыми межпанельными швами; не потрескалась ли моя слегка обветренная кожа, как грязно-желтая штукатурка вдоль всего фасада, и не почернели ли мои зубы, как почернели оконные карнизы по всему зданию, исключая те места, где внезапно разбогатевшие хозяева поставили модные и практичные стеклопакеты.
Одной из веских причин, заставивших меня бросить пить, была явственно наметившаяся деградация моей внешности. Не то чтобы я страдал нарциссизмом, но — видит Бог — нельзя верить тем мужикам, которые говорят, что внешний вид — это не главное для мужчины (особенно в юном возрасте). Заметив, что в более-менее серьезных местах меня стали встречать — и по одежде, и по внешности, — прямо скажем, «с прохладцей», да и провожать, как в том анекдоте, «тоже плохо», я медленно, но верно уразумел: надо бросать; надо завязывать тройным морским узлом и становиться на путь исправления, путь заведомо трудный, но истинный.
Внешний вид и истинный путь в жизни каждого человека — вещи очень важные и значимые, но кроме них есть еще упомянутые мной выше сложившиеся обстоятельства. Мои сложившиеся обстоятельства таковы: отсутствие высшего образования, три разрушенных брака за плечами и херовая, приобретенная совсем недавно, работа в частном охранном предприятии.
Я стою неподалёку от метро «Кузьминки» на посту № 1, как я уже говорил, в тени козырька при входе в зал игровых автоматов и вдыхаю весенний запах, издаваемый мелкими белыми цветами, распустившейся рядом с витриной соседнего магазина, удушливой «кашки». Аромат ее повсеместен, вездесущ и странно-притягателен. Так обычно благоухает, если мне не изменяет память, женская промежность во время месячных — наскоро и плохо промытая и спрыснутая для блезиру дешевым китайским дезодорантом.
Так, должно быть, пахнет вся моя прошлая непутевая жизнь.
Пост № 1 огромен. На его территории расположен ряд торговых палаток и магазинов, накрытый грязным стеклянным плафоном выход из метро, четыре или пять автобусных остановок и прилегающая к ним стоянка такси. Я работаю вместе с напарником. Внешне он напоминает Винни-Пуха: толстый, глупый, неуклюжий. Стопроцентный люмпен. Раньше таких ребят можно было встретить на фабриках и заводах, куда они автоматически попадали, закончив профильные ПТУ и техникумы. Теперь фабрики сильно изменились, и работают на них преимущественно приезжие с окраин распавшегося СССР; на заводах почти та же картина, как, впрочем, и на всех оставшихся после распада государственных и коммерческих предприятиях. Возникает закономерный вопрос: куда податься бедному пэтэушнику? Не на стройку же, в самом деле, где и в советские-то времена работала одна лимита да алкоголики. Остались только две более-менее приемлемые социальные ниши: торговля и охрана. Причем, торговля уже больше чем наполовину заполнена теми же приезжими. Трудиться там тяжело и муторно, тем более хозяева торговых точек и магазинов, как правило, злостно нарушают трудовое законодательство, что совершенно неприемлемо для коренных (или считающих себя таковыми) жителей столицы. В охране же, несмотря на вопиющие нарушения того же законодательства, по мнению многих москвичей, работать все-таки — худо-бедно — можно. Особенно любящим выпить мужикам среднего возраста, отслужившим в армии и не склонным к освоению «новых и нужных» профессий, таких как программист, менеджер, бухгалтер, экономист, юрист и так далее, и тому подобное.