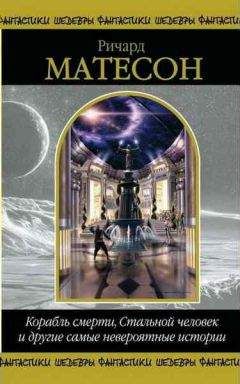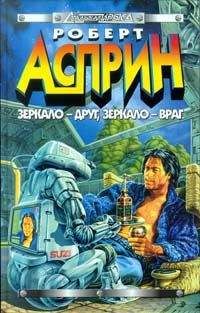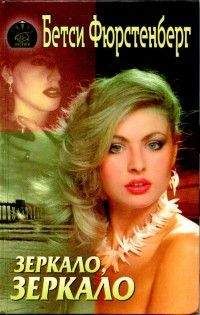Герард Реве - По дороге к концу
Смешно, конечно, но кто знает, может танцующие голые бабы, которые приходят к гуру во снах каждую ночь, чтобы без конца возбуждать его, и есть расплата за тот венерический хоровод.
Кстати, о танцах: Петер еще рассказывал, как он, будучи шестилетним мальчиком, на каком-то коммунистическом празднике должен был танцевать на сцене в компании нескольких девочек, несомненно в восточно-европейских нарядах.
— Знаешь, в каком-то смысле, как его, ну, мне это совсем не понравилось.
Педофилы, черт возьми. Ужасающий прилив ненависти вызвали во мне воспоминания о дрессировщице детей Иде Л. с ее «Веселой» Бригадой и Детским Цирком «Локоток». Пролетарское юношество, сигающее через костер.
Я опять принялся копаться в бесполезных бумагах: Это случилось 22 августа 1965 года в воскресенье после обеда между часом и двумя. Что именно, не записано, но и так понятно, что вряд ли это было что-то приятное. Хотя, никогда не угадаешь, потому что, перебирая листы, я нашел еще одну записку, на которой стояло точное время и дата, она гласила, что Госпожа Ван дер М., из дома на углу, в прошлом Августе числа двадцать третьего в 19 часов 25 минут, держа над головой черный зонтик, отправилась к своей старой тете Сипке, которая еще кормила собственных уток, но по другим делам на улицу уже не выходила; торжественно проходя мимо нашего дома, соседка держала перед собой блюдечко, а на нем лежали 18 собственноручно выращенных в саду клубничек, каждая размером с хорошую изюмину. Слава, слава, аллилуйя.
Хорошо, что у меня есть ангел-хранитель. Хорошо было бы написать посвященное ангелу стихотворение, которое, удобства ради, можно назвать просто: «К Ангелу».
Эти Трое были несотворенным Одним, Его откровением. До сих пор все ясно и понятно. Но не было ли вообще-то четвертого? Да, был. Да, точно, был и Четвертый, который связывал Троих и Одного в вечности, в тихой, бессловесной вечности, наполняющей все, и где-то я его видел, поздним полднем, разве нет?
— Что видишь ты?
Я не видел «поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны севера».[262]
— Что видишь ты?
Я видел пыльные окна, пожелтевшее витражное стекло, древний солнечный свет.
— Ты верно видишь. Что слышишь ты?
— Ну, время от времени голос. Ах, Господи! Смею говорить, ведь я уже немолод.
Теперь я понял то, чего не мог осознать прежде, узнал то, что видел ранее, в час предвечерний, когда Тигра катал меня на машине, пытаясь утешить и отвлечь, потому что я был опять во власти злого и нечистого духа; и рука моя записала: Теперь я знаю, кто ты есть, Мальчик одинокий, которого я видел в Водсенде, а потом в тот же день повстречал в кафе в Хеге. Я слышу голос Матери. О, Смерть, которая есть правда: ближе к Тебе.
БЛИЖЕ К ТЕБЕ
(духовные псалмы)
Поднимаюсь с постели из-за того, что не могу больше спать.
Половина четвертого. День занимается, и я вижу
Ваше устрашающее Величество.
Когда я умру, присмотри за Тигрой.
Этой ночью я видел во сне мою старую мать,
наконец-то прилично одетую:
Над лесом, где она прогуливалась со Смертью,
поднималась безмолвная тишина.
Мне не было страшно. Мне показалось, что она выглядела
счастливой
и отдохнувшей.
На шее у нее было ожерелье, подходящее к платью.
Если кардинал пукнет, они говорят:
«Ё-моё, как хорошо пахнет-то,
прям будто печенку с луком где-то жарят».
Терпеть не могу таких католиков.
Я был невероятно большим, но милым медведем.
Бог был Ослом и очень меня любил.
И все были счастливы.
Ты, которая мало говорила,
но все хранила в своем сердце —
Тебя я приветствую и утешаю, милая Матерь.
Благословенная.
Теперь придется бросить пить.
Когда-то же нужно с этим покончить.
Хватит уже.
Утешь меня, о, Дух,
в ночь с 20-го на 21-е июля 1965 года
в великих лишениях, окруженного Темнотой.
Молодому нидерландцу Р. индонезийского происхождения
Мой старик дядя еще помнит, что в детстве —
он раньше жил в Бандунге,
и только позже попал в Дом престарелых —
на столике в холле каждого отеля
стояло по кувшинчику с можжевеловой водкой,
как вода, бесплатно.
«Вот как раньше было. Для тебя это, конечно, новость?»
«Да, Дядя».
«Ах, мальчик, все было не так плохо:
Местные знали свое место, никто и не слыхал о смутьянах.
Люди были вежливы, делились друг с другом.
Еще была на земле настоящая сердечность, была любовь».
Все кончилось, даже выпивка, которую я не люблю,
Но у всякой медали две стороны.
Вот и у меня вновь появилась надежда:
Пускай Ты покинул меня и не освещаешь мой путь,
я буду жить дальше и делать вид, что все в порядке.
Нужно все вернуть, чтобы было, как раньше.
Бога, например, больше нет.
Да, а когда-то у нас была Индия
и десятицентовик чего-то стоил!
Но все это больше не существует.
Лишь бы кто-нибудь читал мне перед сном сказки.
Слово Твое, которое вечно, гласит,
что я всего лишь трава, так оно и есть.
После долгих раздумий я вновь присосался к горлышку.
Но я не жалуюсь, потому что все должно быть
завершением Тебя, Бесконечный, для Тебя я пою и танцую,
пока Тебе это приятно, пока это в угоду Тебе.
Представляешь, если бы не существовало похмелья.
Было бы гораздо хуже.
У тебя никогда не было бы похмелья,
а сейчас случается.
Хорошо, когда все как надо. Славь Бога.
«Дешевое вино, мастурбация, кинотеатр»,
писал Селин.[263]
Вино кончилось, а кинотеатров здесь нет и в помине.
Существование становится слегка односторонним.
Иногда бывают дни, когда я несколько
часов подряд не вспоминаю о Смерти,
но сегодня утром, как только проснулся,
я сразу же задумался о Смерти.
Фонари еще горели — будто уже вечер;
в столь ранний час я уже думал об Умерших.
После обеда явился Михаил. Я испек ему хлеб.
Я смотрел, как он ест, а видел лишь его молодость.
Когда он снова ушел, я глотнул из его стакана,
и, задыхаясь, сдрочил.
Услышь меня, о Вечный. Вспомни обо мне,
что болтается между Смертью и Смертью, в заблуждении,
и что уже покоится в Твоей безвременной Могиле.
Есть новости? Да, конечно.
Хорошие новости, даже очень. Это можно назвать
благой вестью:
Бог сдрочил, думая обо мне.
В глазу ни капли, а я прославляю Бога.
Сегодня со мной чего только не происходило.
Прогуливаясь в нижнем городе,
размышляя о Решающих Вещах,
я увидел мальчика, — кажется, туриста из Германии.
и последовал за ним, думая:
я хочу трахнуть тебя в задницу, а если нет,
так ударь меня,
главное, чтобы процесс пошел —
до тех пор, пока он не пропал в «Пчелином улье» и я,
трясясь от желания, наталкиваясь на людей,
потерял его след.
Но все же я продолжаю славить Тебя,
ведь немыслимо велики все дела Твои:
Ты, создавший существо, у которого
сзади пизда, а спереди хвост.
Как я уже сказал, я трезв, но я хотел
криком Тебя прославить и в слезах упасть к ногам Твоим,
О, Хозяин, Раб и Брат, Убиенный и Воскресший Бог.
Напевая и втайне наслаждаясь,
я пошел дальше.
Потом я увидел Бэт ван Берен, сидящую за белым
столиком,
напротив ее собственного кафе, ножом и вилкой она пыталась разделать скумбрию, чтобы съесть ее в лучах
солнца.
Я подумал: смотри-ка. Как прекрасно все созданное
Природой.
(только подумайте обо всех этих звездах с их световыми
годами.)
Я хотел зайти на какой-нибудь вечерний молебен,
но поблизости ни одного не служили.
Я дома, но дверь держу на замке.
Так что все, кто приходят, думают,
что дома меня нет.
Но я-то здесь.
Это воистину правильно и хорошо,
что они думают, что меня нет дома,
потому что я хочу быть один, с Тобой.
С Тобой говорить и Тебе кричать, даже если
Ты не отвечаешь.
В то время, как Тигра рассказывал мне о том, как он был
влюблен
в русоволосого сына полицейского,
мимо проехал на велосипеде Запихашка, мечта педераста,
в сапогах и фиолетовых джинсах,
знание — сила, по дороге в школу.
Звери пали ниц. Лес утих.
От камней изнутри затошнило.
Ночью мне снилось, что я верю в Бога.
Я лег спать трезвым и не мог уснуть.
Когда я все же провалился в сон, дом загудел,
и я с кем-то сражался.
Не до утра:
когда я проснулся, была еще ночь.
Благословения не было и следа.
Если я проживу еще какое-то время, я стану стариком.
Безнадежность растет,
но чаще, чем прежде,
меня просят почитать
для образовательных учреждений
вступления, лекции, приветствия,
собственные произведения.
На моей козлиной шее болтается слишком
широкий воротник незапятнанной рубашки,
на ней, поверх — галстук в полосочку.
Лицо мое — маска из свиной кожи.
Иногда, если собрание по обоюдному согласию
проводится в саду университетского городка,
то я единственный, кому холодно
и кто дрожит в безвкусном новом дорогом
темно-синем костюме, сшитом на заказ:
огонек во мне лишь теплится.
Девочка записывает каждое слово, а когда я говорю:
вот этот и этот, по-моему, великие поэты,
то она пишет четким и разборчивым почерком:
«Этот и тот — великие поэты».
А когда я слышу собственный голос, отправленный
Смертью обратно ко мне,
мне хочется заорать, что все это не имеет значения, если
они мертвы,
и что я хочу домой.
Но кто поймет.
Внезапно ветер утихает, и надо всем нависает тень,
И я дрожу от страха, но за кого или из-за чего, боже мой?
Прежде чем я уйду в Ночь, что вечно пылает бессветием,
я хочу еще последний раз сказать:
Я никогда ничего иного не искал,
кроме Тебя, кроме Тебя, кроме Тебя одного.
Никто не может сказать когда и как.
Может, с поднятым бокалом,
когда, фыркая и тяжело дыша, он пытается что-то
объяснить
сквозь бушующий прибой смеха.
Вдруг голос срывается на писк приглушенный
и пустая рука лапает бедное сердце,
в котором теперь торчит нож Божий.
Вспышка: грустная игрушка, грустный снег
и грустный свет фонаря. Больше ничего.
Вот так, вот и конец.
«Как жил, так и умер».
После того, как мы посидели у того и у этого,
мы пошли еще выпить, сам знаешь куда.
Этот, как его, был там тоже и пел псалом
о безымянной Могиле вечности.
В поезде по дороге домой я ищу забвения в пиве,
но то, что должно, неминуемо:
уже на второй остановке он входит, нежный матрос,
с упрямыми ягодицами,
скромный, но грубый. С ушками. Темно-русый.
Когда я стану богат, он будет ходить со мной в город и пить, что хочет:
«это моя кровь».
И любую красивую проститутку, какую он захочет, я оплачу:
«это мое тело».
Я бы с большим удовольствием поприсутствовал, милый,
но если ты стесняешься:
не надо, я не буду на тебя смотреть,
спрячь наготу в свитер и брюки, возвышенный рыцарь,
обожаемый Зверь, милый мой Братик.
Наконец-то я ни во что не верю
и во всем сомневаюсь, даже в Тебе.
Но временами, когда мне кажется, что Он действительно
есть на свете,
то я думаю, что Он есть Любовь, и что Он одинок,
и что Он ищет меня с таким же отчаянием,
как я Тебя.
Держа фотографию в свободной руке,
стреляю Семенем в сторону вечности, где Стю Сатклиффа,[264] в столь юном возрасте отмеченного
Благодатью,
Господь ебет попеременно
от похоти к безумию.
Хотя недолет: Тебе — твой световой год,
мне — мой сантиметр.
В восемнадцать — запросто пульнешь метра на два, а то и
больше,
но с каждым годом расстояние уменьшается.
Ты видишь меня, но не смеешься надо мной.
Поелику Ты есть Любовь, Ты снова все устроил как надо,
и на этот раз признался честно, что не моя вина.
Мой Сын, мой Агнец, я так сильно люблю Тебя.
Осенний туман. Бесполезная похоть полдней.
Выпоротый парикмахер. Коленопреклоненный пианист.
Здесь ободряющее слово, там прибаутка,
вот так и дальше, у жизни свои законы.
А потом, между двумя вторжениями полиции, поэт или
писатель, или оба сразу, или ни тот, ни другой, С.В.,
просит увековечить его в слове.
Я хочу написать стихотворение, посвященное дню
рождения Бога:
Отчаянно напиваясь под резким кухонным светом,
я вижу тебя снаружи, Победоносный,
Сын, что Смерть есть, Утешение, Забытье.
Соеедке Х. из Г.