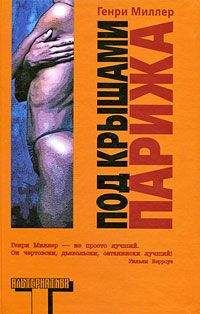Генри Миллер - Под крышами Парижа (сборник)
Вскоре письма стали летать туда и обратно. С каждым очередным письмом ситуация ухудшалась. Очевидно, на те скромные суммы, которые мы ему отправляли, в Швейцарии далеко не уедешь. Хозяйка грозилась его выселить, здоровье его ухудшалось, он не выносил свою комнату, ему не хватало еды, он не мог найти никакой работы, а в Швейцарии нельзя просить милостыню.
Посылать ему более крупные суммы было невозможно. У нас просто не было таких денег. Что делать? Я снова и снова обдумывал ситуацию. Казалось, что нет никакого выхода из создавшегося положения.
Тем временем его письма прибывали и прибывали, всегда на хорошей бумаге, всегда авиапочтой, всегда с просьбами, мольбами, тон их становился все более отчаянным. Если только я не предприму что-то радикальное, он погиб. На что он намекал – до боли понятно.
Наконец меня осенила, на мой взгляд, блестящая идея. Почти гениальная. А именно – пригласить его приехать и жить с нами, разделить с нами все, что мы имели, и считать наш дом своим до конца дней. Это было настолько простое решение, что я только диву давался, почему оно не пришло мне в голову раньше.
Несколько дней я держал эту идею про себя, прежде чем выложил ее жене. Я знал, что убедить ее в необходимости такого шага будет непросто. Не потому, что она была невеликодушна, а потому, что он едва ли был тем, кто делает жизнь интересней. Это все равно что пригласить саму Меланхолию – чтобы она пришла и уселась тебе на плечо.
– Где ты его разместишь? – были первые ее слова, когда я наконец собрался с мужеством поднять данный вопрос; у нас была только гостиная, в которой мы спали, и крошечный закуток к ней, где спала малютка Вэл.
– Я отдам ему свою мастерскую, – сказал я.
Это была отдельная комнатушка, едва ли больше той, в которой спала Вэл. Над ней был гараж, частично превращенный в студию. Я полагал использовать его для себя.
Затем последовал основной вопрос:
– Где ты возьмешь денег ему на дорогу?
– Об этом надо подумать, – ответил я. – Главное, согласна ли ты рискнуть?
Несколько дней мы спорили на эту тему. Жену терзали дурные предчувствия, она умоляла меня отказаться от этой затеи. «Я знаю, что ты только пожалеешь», – ворчливо пророчила она.
Чего она не могла понять, так это почему я чувствовал настоятельную необходимость взять на себя такую ответственность за человека, который на самом деле никогда не был мне близким другом.
– Если бы это был Перле[44], – говорила она, – тогда другое дело; он что-то значит для тебя. Или твой русский друг Евгений. Но Морикан! Ему-то ты чем обязан?
Это последнее вывело меня из равновесия. Чем я был обязан Морикану? Да ничем. И в то же время – всем. Кто дал мне в руки «Серафиту»?
Я попробовал объясниться. Но на полпути отказался от этого. Я увидел, насколько абсурдна сама попытка обосновать подобное намерение. Какая-то книга! Нужно было быть шизиком, чтобы опираться на такой довод.
На самом-то деле у меня были другие причины. Но я стоял на том, чтобы «Серафита» была моим адвокатом. Почему? Я старался докопаться до сути. В конце концов устыдился самого себя. Почему я должен оправдываться? Зачем извиняться? Человек голодает. Болен. Без гроша в кармане. На грани жизни и смерти. Разве этих причин не достаточно? Точнее, он был нищим, жалким нищим, все те годы, что я его знал. Война ничего не изменила – она только усугубила безнадежность его положения. Но зачем заниматься софизмами по поводу того, близкий он друг или просто друг? Даже если бы он был незнакомцем, самого факта, что он рассчитывал на мою милость, было вполне достаточно. Когда человек тонет, его спасают.
– Я просто обязан это сделать! – воскликнул я. – Не знаю, как именно, но сделаю. Напишу ему прямо сегодня. – А затем, чтобы задобрить ее, сказал: – Может, ему не понравится эта идея.
– Не волнуйся, – сказала она, – он ухватится и за соломинку.
Так что я написал и объяснил ему всю ситуацию. Я даже нарисовал план нашего жилища, отметив размеры его комнаты, тот факт, что она не отапливается, и добавив, что мы живем далеко от города. «Возможно, Вам здесь покажется очень скучно, – писал я, – кроме нас, не с кем поговорить, нет ни библиотеки, ни кафе, а до ближайшего кинотеатра сорок миль. Однако Вам, по крайней мере, больше не придется беспокоиться ни о крыше над головой, ни о еде». Я заключил фразой, что здесь он будет сам себе хозяин, сможет посвятить свое время тому, что ему приятно; и в самом деле, он мог ничего не делать остаток дней своих, если таково было его желание.
Он ответил немедленно, написав, что он переполнен радостью, назвав меня святым и спасителем, и так далее и тому подобное.
Несколько следующих месяцев ушли на то, чтобы добыть необходимые средства. Я брал взаймы где только было можно, переводил небольшие суммы франков на его счет, брал авансы под свои потиражные и, наконец, занимался приготовлениями для его перелета из Швейцарии в Англию, а оттуда на «Куин Мэри» или, скажем, на «Куин Элизабет» до Нью-Йорка, а из Нью-Йорка самолетом до Сан-Франциско, где я его встречу. В течение этих нескольких месяцев, пока мы набирали долги да скребли по сусекам, мне удавалось поддерживать его в более приличной форме. Ему надо было поправиться, или у меня на руках будет инвалид. Только одну вещь мне не удалось решить удовлетворительно, а именно ликвидировать его задолженность по оплате жилья. Все, что я мог сделать в данных обстоятельствах, – это послать письмо, которое он должен был показать своей хозяйке, письмо, в котором я обещал по мере возможности развязаться с его долгами. Я дал ей слово чести.
Как раз накануне своего отъезда он прислал последнее письмо. Дабы заверить меня, что в отношении хозяйки все тип-топ. Он писал, что, дабы избавить ее от волнений, ему поневоле пришлось вставить ей. Он, конечно, выразился изысканней. Но дал ясно понять, что, как бы ни было ему неприятно, долг свой он исполнил.
До Рождества оставалось несколько дней, когда он приземлился в аэропорту Сан-Франциско. Поскольку мой автомобиль был сломан, я попросил моего друга Лайлика (Шаца)[45] встретить Морикана и отвезти к себе в Беркли, откуда я затем гостя и заберу.
Едва выйдя из самолета, Морикан услышал, как вызывают его имя: «Мсье Морикан! Мсье Морикан! Attention!»[46] Он так и замер на месте, с открытым ртом. Прекрасное контральто из репродуктора на отличном французском просило его подойти к информационному бюро, где его ожидают.
Он был ошеломлен. Какая страна! Какой сервис! На миг он почувствовал себя властелином.
Это Лайлик ожидал его возле информационного бюро. Лайлик, который проинструктировал девицу, там дежурившую. Лайлик, который умчал его к себе, поставил перед ним хорошую еду, сидел с ним до рассвета, угощал его лучшим шотландским виски, который только смог купить. И в довершение всего расписал ему картину Биг-Сура так, что жизнь там представилась Морикану чуть ли не раем (она и есть рай). Он был счастливым человеком, Конрад Морикан, когда наконец забылся сном.
В каком-то смысле получилось даже лучше, чем если бы я приехал его встретить сам.
Спустя несколько дней, поняв, что пока мне не удается добраться до Сан-Франциско, я позвонил Лайлику и попросил, чтобы он сам привез сюда Морикана.
Они прибыли на следующий день около девяти вечера.
Я пережил до его приезда столько внутренних терзаний, что когда открыл дверь и увидел, как он спускается по ступенькам сада, то буквально остолбенел. (К тому же Козерог лишь в редких случаях непосредственно выражает свои чувства.)
Что же касается Морикана, он был заметно тронут. Когда мы освободились от взаимных объятий, я увидел, как по его щекам скатились две больших слезы. Наконец-то он был «дома». В безопасности, целый и невредимый.
Маленькая студия, которую я переоборудовал для него, была вполовину меньше его мансарды в «Отеле Модиаль». Ее хватало лишь для того, чтобы разместить койку, письменный стол и шифоньер. Когда зажглись две масляные лампы, она засияла. Какой-нибудь Ван Гог нашел бы ее очаровательной.
Я не мог не обратить внимания на то, как быстро он все прибрал, со своей привычной аккуратностью и любовью к порядку. Я оставил его одного лишь на несколько минут, чтобы он распаковал свои сумки и помолился. Вернувшись пожелать доброй ночи, я увидел, что на столе у него все разложено, как в былые времена, – пачка бумаги, покоящаяся наклонно на треугольной линейке, раскрытый большой блокнот с промокательной бумагой, а кроме того, склянка чернил и ручка вместе с набором карандашей, заточенных самым тщательным образом. На туалетном столике со встроенным зеркалом расположились его расческа и зубная щетка, ножницы для маникюра и пилка для ногтей, переносные часы, одежная щетка и пара фотографий в миниатюрных рамках. Он уже вывесил на стене несколько флажков и вымпелов, прямо как мальчик из колледжа. Единственное, чего не хватало для довершения картины, – это его натальной карты.