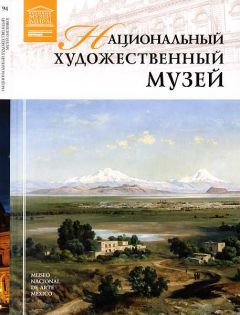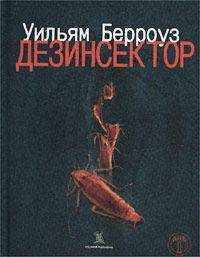Уильям Берроуз - Гомосек
Ли допил второй стакан. Снова оглядев бар, он увидел, что Аллертон уже играет в шахматы с Мэри, американской девушкой с крашенными хной волосами и тщательно наложенной косметикой – Ли не видел, как она вошла в бар. "Зачем здесь тратить время?" – подумал Ли. Он расплатился за свои два стакана и вышел.
Он взял такси до "Чиму" – голубого бара, где было много мексиканцев, – и провел ночь с молоденьким мальчиком, которого снял там.
В то время американские студенты, пользовавшиеся льготами военнослужащих, днем обычно сидели в "Лоле", а по вечерам ходили в "Эй, на борту!". "Лола" была не совсем баром, скорее – забегаловкой, где продавали пиво и газировку. Слева от двери, только заходишь, стоял ящик "кока-колы" со льдом, пивом и газировкой. Вдоль одной стены до самого музыкального автомата тянулась стойка, перед ней выстроились табуреты из металлических трубок с сиденьями из желтой блестящей кожи. Столики были расставлены у противоположной стены. С ножек табуретов давно отвалились резиновые наконечники, и табуреты противно скрежетали, когда уборщица двигала их, подметая пол. В глубине располагалась кухня, где неряшливый повар жарил все в прогорклом жире. В "Лоле" не существовало ни прошлого, ни будущего. Просто зал ожидания, куда определенные люди заглядывали в определенное время.
Через несколько дней после съема в "Чиму" Ли сидел в "Лоле" и читал Джиму Кочену вслух "Ultimas Noticias". Там напечатали историю про человека, убившего своих жену и детей. Кочен все время порывался уйти, но стоило ему подняться, Ли усаживал его на место со словами:
– Нет, ты только прикинь… "Когда жена вернулась домой с рынка, муж, уже совершенно пьяный, размахивал 45-м калибром". Ну почему ими обязательно нужно размахивать?
Ли почитал немного про себя. Кочен ерзал на стуле.
– Господи боже мой. – Ли поднял голову от газеты. – Сначала он приканчивает жену и троих детей, а потом достает бритву и инсценирует самоубийство. – Он снова посмотрел в газету. – "Но результатом стало лишь несколько царапин, не потребовавших медицинского вмешательства". Паршивое представление! – Он снова углубился в газету, еле слышно бормоча подводки к статьям. – Масло уплотняют вазелином. Отлично. Омар в топленой смазке… А – вот: уличный торговец тако испугался облезлой собаки… здоровенная худющая гончая. Вот и портрет самого торговца с собакой… Один гражданин попросил у другого прикурить. У второй стороны спички не нашлось, поэтому первая сторона достает пестик для колки льда и убивает его. Убийства – национальный невроз Мексики.
Кочен встал. Ли тоже моментально вскочил:
– Да сядь ты уже на свою задницу, или что от нее осталось, пока ты на флоте служил.
– Мне надо идти.
– Жареный петух клюнул?
– Я серьезно. Я и так слишком часто в последнее время отлучаюсь. Моя старуха…
Ли его уже не слушал. Мимо заведения прошел Аллертон и заглянул внутрь. Ли он не поприветствовал – лишь притормозил на секунду и пошел дальше. "Я был в тени, – подумал Ли, – и он меня с улицы не заметил". Ли не обратил внимания, как смылся Кочен.
Поддавшись порыву, он выскочил на улицу. Аллертон не успел далеко отойти – полквартала, не больше. Ли нагнал его. Аллертон обернулся и удивленно поднял брови – прямые и черные, как мазки кисти. Он не просто удивился – встревожился, поскольку сомневался в нормальности Ли. А тот отчаянно импровизировал.
– Я просто хотел тебе сказать: некоторое время назад в "Лолу" заходила Мэри, просила тебе передать, что немного позже, часов в пять, она будет в "Эй, на борту!". – Отчасти это было правдой. Мэри действительно заходила в "Лолу" и спрашивала Ли, не видел ли он Аллертона.
У Аллертона отлегло от сердца.
– О, спасибо, – ответил он вполне тепло. – А ты там вечером будешь?
– Да, наверное. – Ли кивнул и улыбнулся, а потом быстро пошел прочь.
Ли вышел из дому в "Эй, на борту!" около пяти. Аллертон уже сидел у стойки. Ли сел рядом, заказал выпить и повернулся к нему с небрежным приветствием, точно давно и тесно знакомы. Аллертон механически ответил, не успев понять, что Ли как-то удалось укрепиться в собственной фамильярности. Он же до этого твердо решил держаться от него подальше. У Аллертона был талант игнорировать людей, но выбивать кого-то с заранее занятых позиций он не умел.
Ли заговорил – небрежно, без претензий и разумно, с суховатым юморком. Постепенно впечатление Аллертона о том, что он – тип со странностями и нежеланный, развеивалось. Когда пришла Мэри, Ли встретил ее с нетвердой старорежимной галантностью, откланялся и оставил эту парочку играть в шахматы.
– Кто это? – спросила Мэри, когда Ли вышел наружу.
– Понятия не имею, – ответил Аллертон. Встречал он Ли раньше или нет, Аллертон не был уверен. В студенческой среде не принято формально знакомиться. И студент ли он вообще? На занятиях Аллертон его ни разу не видел. Нет ничего необычного в том, что разговариваешь с совершенно незнакомым человеком, но от Ли Аллертону становилось не по себе. И, тем не менее, он казался смутно знакомым. Когда Ли говорил, создавалось ощущение, что он имеет в виду гораздо больше, чем произносит. Какое-нибудь особо подчеркнутое слово или приветствие намекало на некую долгую дружбу в каком-то ином месте и времени. Точно Ли пытался сказать: "Уж ты-то понимаешь, о чем я. Ты-то помнишь".
Аллертон раздраженно пожал плечами и принялся расставлять фигуры на доске. Он походил на капризного ребенка, не понимающего, почему у него вдруг испортилось настроение. Через несколько минут игры вернулась его обычная безмятежность, и он начал мычать что-то себе под нос.
Ли вернулся в "Эй, на борту!" уже после полуночи. У стойки кипятились выпивохи – они орали так, точно все вокруг оглохли. Аллертон стоял с краю, явно не в силах сделать так, чтобы его услышали. Он тепло поздоровался с Ли, подтолкнул его к стойке и вынырнул из толпы с двумя стаканами рома с колой.
– Давай сядем вон там, – предложил он.
Аллертон был пьян. Глаза подернулись лиловым, зрачки расширились. Он тараторил очень быстро – высоким, тонким голосом, жутким бестелесным голосом ребенка. Ли никогда раньше не слышал, чтобы Аллертон так разговаривал. Будто медиумом овладел какой-то дух. Мальчишка был нечеловечески весел и невинен.
Аллертон рассказывал о том, как служил в контрразведке в Германии. Информатор кормил их департамент липой.
– А как вы проверяли точность информации? – спросил Ли. – Откуда вы знали, что девяносто процентов того, что они вам выкладывает, – не туфта?
– В том-то и дело, что не знали, потому нас так часто и подставляли. Мы, конечно, проверяли всю информацию по другим источникам, да и штатные агенты у нас были. Большинство наших информаторов давали нам какую-то часть липы, но один тип сочинял сам всё. Заставил наших агентов искать целую воображаемую сеть русских шпионов. И вот наконец приходит рапорт из Франкфурта – все это херня на постном масле. А он нет чтобы сразу из города свалить, пока мы проверить не успели, – приходит снова с добавкой.
Ну, мы к этому моменту говна от него уже наелись. Запираем его в погреб. Там довольно холодно и неуютно, но больше для него мы ничего сделать не могли. С пленными очень деликатно нужно обходиться. Он нам чистосердечные признания только так на машинке отщелкивал, такие огромные портянки.
История явно восхищала Аллертона, и, рассказывая ее, он не переставал хихикать. Ли поразился такому сочетанию разумности и обаятельной детской непосредственности. Теперь Аллертон держался дружелюбно, не сдерживался, не защищался – как дитя, которому никогда не делали больно. Он пустился в следующую историю.
Ли любовался его тонкими руками, красивыми лиловыми глазами, возбужденным румянцем на мальчишеском лице. Его воображаемая рука потянулась к Аллертону с такой силой, что тот наверняка почувствовал, как пальцы из эктоплазмы ласкают его ухо, как призрачный большой палец гладит его по бровям, отбрасывает челку со лба. Вот руки Ли пробегают по его ребрам, гладят живот. Легкие Ли болезненно заныли от страстного желания. Рот приоткрылся, в полуоскале изумленного зверя сверкнули зубы. Ли облизнулся.
Депрессия ему не нравилась. Ограниченность собственных желаний напоминала прутья клетки, цепь с ошейником. Это он научился понимать после многих дней и лет, как понимают животные – цепь не пускает, решетки не поддаются. Он никогда не уступал – всегда выглядывал сквозь невидимые прутья, бдительно, вечно настороже, дожидаясь, когда сторож забудет запереть дверцу, перетрется ошейник, прут клетки выскочит из гнезда… страдая без отчаянья и смирения.
– Я подхожу к двери, а у него ветка в зубах, – говорил между тем Аллертон.
Ли не слушал его.
– Ветка в зубах? – переспросил он, затем глупо добавил: – И большая ветка?
– Фута два в длину. Я говорю ему: отвали, – а он через несколько минут всплывает в окне. Я кидаю в него стулом, а он с балкона прыгает во двор. Футов восемнадцать высота. Очень проворный. Почти нечеловечески. Жуть какая-то – потому я в него стулом и кинул. Испугался. Мы потом прикинули, что это он нарочно, чтобы от армии откосить.