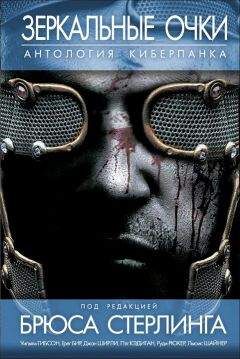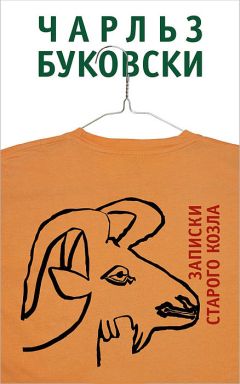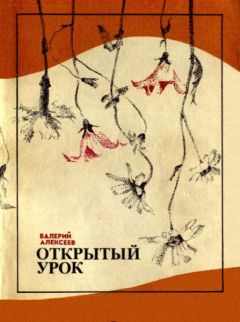Юрий Домбровский - Факультет ненужных вещей
– За что? – спросил Зыбин.
– За нарушение правил распорядка. Вон инструкция на стене – читайте! – И солдат захлопнул оконце.
После этого они оба с минуту молчали.
– Да, – покачал головой Буддо, – доводят до конца! Эх, Георгий Николаевич! И что вы партизаните, что рыпаетесь по-пустому? Для чего – не понимаю!
Зыбин сел на койку и погладил колено.
– Что я рыпаюсь? Ну что ж, пожалуй, я вам объясню, – сказал он задумчиво. – Вот, понимаете, один историк рассказал мне вот какой курьез. После февральской революции он работал в комиссии по разбору дел охранки. Больше всего их, конечно, интересовала агентура. На каждого агента было заведено личное дело. Так вот, все папки были набиты чуть не доверху, а в одной ничего не было – так, пустячный листочек, письмо! Некий молодой человек предлагает себя в агенты, плата по усмотрению. И пришло это письмо за день до переворота. Ну что ж? Прочитали члены комиссии, посмеялись, арестовывать не стали: не за что было – одно намеренье, – но пропечатали! И вот потом года два – пока историк не потерял его из вида – ходил этот несчастный студентик с газетой и оправдывался: «Я ведь не провокатор, я ничего не успел, я думал только...» И все смеялись. Тьфу! Лучше бы уж верно посадили! Понимаете?
– Нет, не вполне, – покачал головой Буддо. – Поясните, пожалуйста, вы говорите, письмо было послано за день до... Значит, вы думаете...
– Вот вы уже и сопоставили! Да нет, ровно ничего я не думаю. Не сопоставляйте, пожалуйста! Тут совсем другое. Этот молодой человек дал на себя грязную бумажонку и навек потерял покой. Вот и я – боюсь больше всего потерять покой. Все остальное я так или этак переживу, а тут уже мне верно каюк, карачун! Я совершенно не уверен, выйду ли я отсюда, но если уж выйду, то плюну на все, что я здесь пережил и видел, и забуду их, чертей, на веки вечные, потому что буду жить спокойно, сам по себе, не боясь, что у них в руках осталось что-то такое, что каждую минуту может меня прихлопнуть железкой, как крысу. Ну а если я не выйду... Что ж? «Потомство – строгий судья!» И вот этого-то судью я боюсь по-настоящему! Понимаете?
Буддо ничего не ответил. Он пошел и сел на койку. И Зыбин тоже сел на койку, задумался и задремал. И только он закрыл глаза, как раздался стук.
Он поднял голову. Окошечко было откинуто, в нем маячило чье-то лицо. Потом дверь отворилась, и в камеру вошли двое – дежурный и начальник. Зыбин вскочил.
– Предупреждаю: при следующем замечании сразу пойдете в карцер, – не сердясь, ровно сказал начальник. – На пять суток! Второе нарушение за день!
– Но я не спал неделю!
– Этого я не знаю! – строго произнес начальник. – Но здесь днем спать нельзя! Говорите со следователем.
– Вы же знаете: они нас не слушают.
– Ничего я не знаю. Мое дело – инструкция. Вот она. Днем спать нельзя. Пишите прокурору. – И он повернулся к двери.
– Стойте! – подлетел к нему Зыбин. – Я буду писать прокурору, дайте мне бумагу.
– В следующий вторник получите, – сказал ровно начальник.
– Нет, сейчас! Сию минуту! – закричал Зыбин. – Я напишу прокурору. Я объявлю голодовку! Я смертельную, безводную объявляю! Слышите?
– Слышу, – с легкой досадой поморщился начальник и повернулся к дежурному. – На пять суток его в карцер, а потом дадите бумагу и карандаш.
Так Зыбин попал в карцер. И так он в первый раз за семь суток заснул на цементном полу.
И море снова пришло к нему.
...Я ведь страшно мудрый тогда был. Я тогда вот какой мудрый был: я думал, посидит он у меня под кроватью, сдохнет, и все. Сейчас мне самому непонятно, как я мог пойти на такое. Боль и страданье я понимал хорошо. Меня в детстве много лупили. Бельевой веревкой до синяков, пока не закапает кровь. Мать у меня была культурнейшая женщина – бестужевка, преподавательница гимназии. Она ходила на всякие там поэз-концерты, зачитывалась Северяниным, Бальмонтом. У нас в гостиной висел «Остров блаженных» Беклина, мне дарили зоологические атласы и Брема («он обязательно будет зоологом»). И била меня по-страшному. Отец не вмешивался и делал вид, что не замечал. А потом он умер, появился отчим, так тот вообще не велел меня кормить – ведь он был еще культурнее!
– Как же ты жил? – спросила она тихо. И они оба вздрогнули от этого неожиданного «ты».
– Да вот так и жил, представь себе, не так уж плохо. Имел товарищей, писал стихи, конечно, очень плохие стихи, сначала под Есенина, потом под Антокольского, я любил все гремучее, высокое, постоянно сгорал от любви к какой-нибудь однокурснице. Тогда я поступил на литфак, как-то очень легко сдал все экзамены и поступил. Надеялся, что буду стипендию получать. Нет, не дали. Я ж из состоятельной семьи: отчим – профессор, мать – доцент.
– Пил?
– Нет, тогда совсем не пил. Тогда я капли в рот не брал. Пить начал много позже. Уже когда кончал. Ведь тогда время очень смутное, страшное было. Есенинщина, богема, лига самоубийц – да-да, и такая была! Трое парней с нашего фака составили такую лигу. Вешались по жребию – двое успели, третий – нет. И знаешь, как вешались? Не вешались, а давились петлей, лежа на койке. А-а! – вдруг удивленно закричал он и остановился. – Вот оно что! Теперь я понял, откуда мне знакомо его лицо. Он же меня допрашивал по делу этих самоубийц. Но это еще до Кравцовой было! Да, да! Да как же он-то меня забыл? Или...
– Это ты про...?
– Ну про него, про него! Он же следователь, только почему же он не сказал мне сразу?
– Ты знаешь, – она взяла его за плечо. – Он вчера мне сделал предложение.
– Что?! – воскликнул он и тоже вцепился ей в плечо. – Он вам?.. Он тебе... Ух, черт!
– Да, вчера, после того как тебя увели отсюда твои соседи.
– Здорово! И что же ты ответила?
– Просила подождать. Сказала, что должна подумать. Подумаю и отвечу. Вот подумала.
– И что же?
– Поблагодарю и извинюсь, скажу, что не смогу.
– Не сможете?
– Нет, не смогу. Я же тебя полюбила! Вот только сейчас поняла, что я тебя люблю! Но только, пожалуйста, не думай, что ты меня разжалобил! Нет, нет! И пожалуй, ты зря мне всю эту пакость начал. Теперь же я все время буду думать об этом! Но есть в тебе что-то такое... Яд какой-то, что ли? Ведь я не из влюбчивых – нет, нет, совсем не так! И на всякую лирику и исповеди не податливая. А вот ты меня влюбил с такой великолепной легкостью, что и сам не заметил. А вот сейчас не знаешь, что же делать со мной?
– Нет, не знаю, – засмеялся он.
– Да ты еще вдобавок и невозможно искренен! Это в тебе особенно ужасно. Хорошо. Завтра придумаем вместе что-нибудь. Пока не думай.
Несколько шагов они прошли молча.
– Слушай, – сказал он, вдруг останавливаясь. – Вот ты сказала, что любишь меня. Я тебя – тоже. Так что ж? Целоваться, обниматься? А мне совершенно не хочется. Не в том я совсем настроении!
Она засмеялась тихонько, обняла его, чмокнула в щеку и сказала:
– Да нет, все в порядке. Вот и море. Давай краба!
Краб неделю просидел под кроватью – он сидел все в одном и том же месте, около ножки кровати, и когда кто-нибудь наклонялся над ним – с грозным бессилием выставлял вперед зазубренную клешню. На третий день около усов показалась пена, но когда Зыбин к нему притронулся, он пребольно, до крови заклешнил ему палец. Тогда Зыбин ногой задвинул краба к самой стене – вот он там сначала и сидел, а потом лежал. На пятый день его глаза проросли белыми пятнами, но только Зыбин притронулся к нему, как он выбросил вперед все ту же страшную и беспомощную клешню (ох, если бы он умел шипеть!). На панцире тоже появилось что-то вроде плесени. На седьмой день Зыбин утром сказал Лине: «Больше я не могу – вечером я его выпущу». Она ответила: «И я с вами». Они договорились встретиться на набережной около маленькой забегаловки, где вчера они сидели втроем, оттуда его увели соседи, чтоб разрешить какой-то спор в корпусе. Когда она пришла вечером, он уже сидел и ждал ее. Краб был в его шляпе. Уже смеркалось – зажегся маяк, на судах горели зеленые и белые Огни. Они пошли. Он сказал:
– Вот уж не думал никогда, что во мне сидит такой скот! Обречь кого-то на медленное и мучительное умирание. Никогда бы не поверил, что способен на такое! Но вот рыб же вынимают из воды, и они засыпают. Тоже задыхаются, конечно, я и подумал, что и краб заснет. Вот скот! И из-за чего? Из-за глупой бабьей прихоти!
– А она очень красивая, эта прихоть? – спросила Лина подхватывая его за руку.
– Ничего, красивая. Но ты много лучше («Господи, – даже остановилась она, – неужели ты способен и это замечать?»). Будь спокойна! Очень способен! Но не в этом же дело! Пусть хоть раскрасавица, хоть Мэри Пикфорд, голландская королева! Что из этого? Беда, что я скот! И, наверно, права была мать, когда говорила: «Я тебя научу, садиста, гуманизму!» – и хватала веревку. Вот ведь как! – Он засмеялся и покачал головой.
– Вот уж никогда не думала, что тебя можно так назвать.
– Не думала! Нет, называли, лет десять назад только так и называли, а я все думал, что зазря. Ведь меня в зоологи готовили, а какой же зоолог не потрошит лягушек? Но это чепуха, детство, а вот сейчас... Я ведь страшно мудрый был, когда покупал краба. Я ведь вот какой мудрый был – я думал: посидит, заснет, как рыба. А боль я должен был понимать. Знаешь, что такое – веревкой по рукам и ногам?