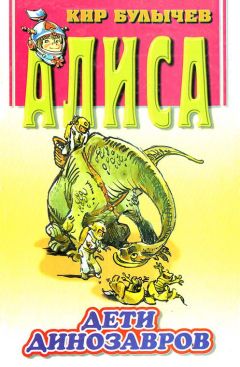Андрей Темников - Зверинец верхнего мира
И только для того, чтобы меня не трогали, не трогали до конца сезона, я продолжаю любимую игру. Показываю пальцем на бледного, хилого молодого человека (jeun homme), который сидит на песке, скрестив ноги, и, морщась, запивает свой спирт водичкой из бордовой шапочки моего термоса. Я, как собака, по верхам, чую, что это спирт, тот самый, довольно чистый спирт, который продает мать моей пухленькой любовницы.
– Это мой сын.
– Разве ему не тринадцать? – Ни тени отвращения, эта беда ее не касается.
А вот пиаршу всю передернуло в память о сбежавшем муже, извращенце и, разумеется, журналисте, всю передернуло.
– Я… подожди-ка, я всегда думала, что у тебя поздний ребенок, моложе моего…
– Поздний-то поздний, но только и мой, как видишь, подрос. Вы его не трогайте, сейчас мой сын переживает. Он остался один. У его жены были тяжелые роды, узкий таз. Врачи ничего не могли сделать. Просто ничего не могли сделать. Вот, собственно, и все.
И тут я заметил, что повторяя бред или ложь, которую он повторяет, когда ему нужно обзавестись недолгими знакомыми, нужно вызвать жалость к себе, я повторяю его жест, и моя рука с безвольно, безумно разведенными пальцами разглаживает невидимый стол немного ниже пояса. Но, кажется, на этот раз я переиграл. Их общество стягивается вокруг меня, крошечный, голенький, неинтересный Егор, сынок пиарши, поглаживает меня самолетиком по ноге и пачкает ее мокрым песком. Спина болит, обожженная июльским солнцем, и все они, все трое (все три тоже неправильно), каждый по-своему принимают на себя предлагаемые обстоятельства, пропускают через сердце уже не мое, ложное, а собственное, благородно вымышленное горе и выражают мне испуганные соболезнования. Егор потерся о меня, где достал, совершенно неаппетитным, огромным ухом, которому еще предстоит узнать хлесткие удары в первом же классе, и оно распухнет. И оно покраснеет. Я не мог не представить себе его сидящим на первой парте этакой живой симметричной мишенью. Дама положила мне руку на плечо. Это был жест театральный и нехороший из-за ногтей. Пиарша насупилась, и, слава Богу, сынок, обошлось без тактильных соболезнований с ее стороны. Не могу поручиться, что я не сожалел уже о всем сказанном. На том, однако, наши отношения и закончились. Тут же, вместе с тем, как вышел спирт в бутылке моего сына. Последнюю порцию ему нечем было запивать, и я увидел, что он ожег себе горло. Выдохнул. Поморщился. Надо было научить его пить неразбавленный спирт.
– Я остался совсем один, – услышал загорелый собственник в шкиперской бородке и синих плавочках и понимающе кивнул, давая ему сплошь белую сигарету. Он, мол, знает, что такое полное одиночество. Это когда его мальчик убегает играть в футбол вот с этим недоумком, который всегда жмется, готовый получить по шее, и они до вечера лупят мячом в железные ворота соседа, а жена его в это время уехала проведать свою маму. Да, тоскливое, ничем не заполненное одиночество: читать нельзя, да и нечего, спать нельзя, да и не хочется, а мячик стучит: бум-бум-бум. – Узкий таз, – будь ветер покрепче, так я бы не слышал его голоса за плеском воды, – врачи ничего, просто ничего не могли сделать. А вы меня помните? – Бородатый что-то отвечал, но плохим голосом, голосом собственника, обладателя собственного послушного мальчика, на которого нет необходимости так кричать, и разговор продолжался. – Отца моего вы, вероятно, тоже знаете. И мать. Она сбежала. Вся в слезах. От такого… Денег я у него не беру. Нет, никогда не беру. Знаете, чем он их зарабатывает? – Шкиперская бородка качает головой, показывая, что знает, что мое гнусное занятие хуже работорговли. – Нет, неправда, он занимается с мальчиками. – Мой безумный сын понизил голос, и долетело только: – Анжамбемент… – И еще: – Французский язык. Ну кому это теперь?..
4
Мое занятие хуже работорговли, и, кроме того, я часто ворую фамилии. Забираю мирные, жалкие, немного добродушные имена и пускаю их в путь по мукам, приписываю им приапическое прошлое настоящих чудовищ, а потом мои книги печатаются в Австрии, в Бельгии, в Швейцарии, в Чехии, в Испании, на немецком, финском, французском и каталонском языках. Ничего в России, ни слова по-русски, по большей части, я и сам не знаю, как они звучат, но зато и столкновение какого-нибудь честного имени с раздутой от важности пропажей практически невозможно.
Рядом со мной трое долго искали мобильник, нашли его в пакете с фруктовыми очистками, который собирались уже выбросить, когда он задохнулся и совсем перестал пищать, подозвали хозяина. Стоя по пояс в воде, он попросил свою девушку посмотреть, кто звонит. Девушка пощупала пульт и выкрикнула ответ. И тут я совершил низкий поступок. Воровство меня несколько подбодрило и вернуло к реальности, в которой вскоре оживет украденное имя, а в этой я смотрел, как мой сын жадно мочится на деревцо, дрожащее всем нежным мальчишеским телом (это был мужской тополь), и направляется к целому лежбищу параллельно прокинутых на одеялах, полотенцах, ковриках, циновках старшеклассниц. Разглядывая розовые спины и разноцветные трусики, заправленные поглубже между персиковых половин, он хочет, чтобы его узнали. Он хочет выбрать себе сестру. И его узнают. И ему уступают место рядом с Катей. Эти добрые девочки любят его даже пьяным и бритым, даже таким, каким я его давно не люблю, и выбранная на день очень ответственно играет роль младшей сестренки, а иногда и медицинской сестры, если ему случается перепить или обкуриться.
5
Украденное имя у меня в голове со страху обделалось. Но я сказал ему: ничего, на даче тебе полегчает, привыкай. На даче я выпил мятного чаю с шестью ложками сахару, поискал яблок, подобрал то, что почервивей, самое сладкое, и спрятался в той заглохшей части сада, где когда-то ничего не росло, земля была выбита ногами гостей, где стоял длинный стол и брезентовый тент и где три дня, во время проливного дождя, гости ели и пили на моей свадьбе. Однажды в брезенте раздался шов, и грязная вода вылилась в уху, и я не знал, как быть, и пришлось ее выбросить. Теперь тут растет плохая малина, и на подходе так много крапивы (мне нравится ее запах), что сюда, с голыми ногами, загорелый, никогда не проберется мой мальчик, подносящий к уху зажатую в кулаке муху-музыканта. Он уйдет от меня, повернется ко мне спиной, такой прямой и стройной, что хребет проступает между расчесанными лопатками. Здесь я поставил скамейку и столик для письма в хорошую погоду.
И сюда выходит окно комнаты моего сына. Летом он никогда его не занавешивает. Прежде чем открыть мой дневник, я увижу белое пятно старой рукописной афиши. «Оскар Уайльд. «Как важно быть серьезным». Пьеса, сыгранная серьезными гимназистами. Песню «Мне бы дали голубые» исполняет автор, М. Несмелов, учитель английского языка». Там, на подоконнике, стоит моя старая зеленая жестяная кружка. Остальное различается плохо. Г-образная щель неприкрытой двери – и кажется, что на кровати, глубоко провалившись в мягкое, почти не видный под горкой одеяла, кто-то спит. Такая маленькая крошка, как ты…
Вот и вся запись. Остается только удивляться, что сегодня в ней не нашлось места украденному имени.
ПИСЬМО О ДОРОГЕ
Моя бессонница плюс страсть к обнюхиванию новых углов… В ящике стола вместе с предметами, которые я перечислю только для того, чтобы не описывать всей необжитой обстановки дома (вот они: напильник, папиросная пачка, сплющенная свеча), – сложенный вчетверо листок. Листок с обеих сторон исписан круглым почерком с наклоном влево, студенческим почерком лекционного лентяя: строки теснятся, но буквы все кругленькие и выведены по-девичьи аккуратно, даже те, что заваливаются совсем уж влево, откинувшиеся для отдыха. Содержание письма этого тебе, кажется, известно. Если же я о нем еще ничего не рассказывал, то погоди, потом.
Вот вообрази: пустая комната, только стол да кровать. Кап-кап-кап дождя, полусумрак, неряшливые сады: ветки гнутся на ветру, мокрые тропинки осклизло блестят. Я стою у окна и, не желая зажигать электричества, все ближе прижимаюсь к подоконнику, дочитывая вот так, с последними лучами света, последние строки того, что написал какой-то зануда. Да, меня разобрало любопытство, а что в этом такого? И я был наказан, загнав себе в душу письмо, полное книжных оборотов, которые лично меня в чужих письмах всегда раздражают: я не люблю обстоятельности, мне претят подробные описания природы. А, к слову, ничего, кроме описания природы, в этом письме я не нашел. Не нашел и уже готов был отложить его обратно в стол, к предметам, оставшимся от чьей-то прошлогодней дачной жизни. Мое небогатое воображение подсказывало мне скучную последовательность событий (не беда, что в ней не умещалось упомянутое письмо): въехали… два-три вечера жгли свечку, поддавшись романтическому настроению, которое всегда нагнетают здешние сумерки, глядели на ее язычок, отраженный на стенках стаканов или на роговице глаза, где он то оказывается вертящейся звездочкой, то проскальзывает матовым пятном – потом это надоело. Свечу бросили на подоконник, солнечные лучи размягчили ее, она стала плоской, налепила себе на бок пыль да сухие мушиные лапки. Напильник взяли зачем-то у хозяев, забыли вернуть, да его и не потребовали назад. Съехали.