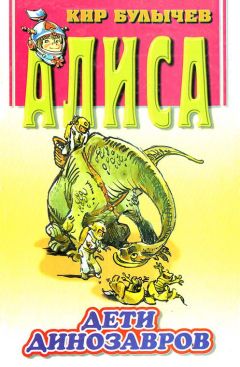Андрей Темников - Зверинец верхнего мира
2
Вернемся теперь к желудям. Вернемся к загорающим, загорелым людям хорошего качества, к женщинам с безупречной невинностью кожных покровов и бледнолысым их содержателям. По-моему, все это какой-то второстепенный, но неизменный кошмар, – зимой, перед пробуждением, видеть, как надуваются гигантские круглые грибы их голов. (“Il y a dans la nuit trois champignons et ils sont la lune”, – говорил Макс Жакоб.) А летом этого не нужно. Я осмотрелся, и что же? На пляже его нет. Искал я внимательно, и пусть его мать не говорит мне, что я проспал целый день. Ошибка, моя дорогая, вышла только потому, что и сам я сегодня с утра был немного нездоров, а вот нужных мер не принял. И единственный мой способный видеть истину глаз (а в другом были одни гигантские белые шары грибов) искал образ двенадцатилетнего мальчика, испачканного мокрым песком по самый подбородок, острый, уже с прыщиком, искал я мальчика в мелких желтых плавочках (которые все ему натирали), мальчика с глупеньким взглядом играющего кота, всегда способного на точный прыжок. Сидел там один, отдаленно похожий, в ямке с теплой, пенистой водой и бортиком из песочной жижи. Сидел этот мальчик, полный блаженства и угловатой лени, только он был под защитой невежды, загорелого, в тесных синих плавках и седоватой на щеках шкиперской бородке. И нигде не было видно свеженькой, немного жидковатой кучки из одежды моего… О! Я всегда ищу его таким, еще никому не заметным, ни к чему не пригодным, ни к какому мерзкому и жадному делу не приспособленным. Ну, а потом начинаются совсем другие расследования.
Невежда изнемогал, стоя по щиколотку в воде против своей собеседницы, но, увидев меня возле песочной ямки, уставившимся на запачканное кремовой пеной бедро мальчика, она его отпустила охранять сокровище и быть отвратительной, интеллигентной, непорочной собакой на сене. На ней был бессовестно тесный лиф, преувеличивающий пышность бюста, из которого выглядывал край левого соска величиной с кофейное блюдце, и большая соломенная шляпа в форме тазика для варенья. Ее плоские, грузные ноги боялись воды, смешанной с фекальными стоками из коттеджей, холодной и мутной, дезодорированной запахом бензина и рыбьей слизи. И эта вода скоро должна меня от нее избавить. Нырну с головой, уплыву. Надвинулась. Собственно, до меня ей нет никакого дела, до моего сына тоже («ведь ему уже тринадцать, правда?»). Мир этой дамы широк и прост. Закрашенная седина, отрядный голос, неувядающие нотки звеньевого, жалобы на сосудистую дистонию… и дальше, дальше в просветах несложных построений мелькали тени чудовищных поступков, которым она безотлагательно подыскала бы оправдание, если бы только помнила их сама, особенно в такой мягкий день. Судя по тому, как быстро невежда в шкиперской бородке собрал ребячьи шкурки и уносит их подальше, он уже изрядно отравлен. Он еще плетется, чтобы не выдать себя паникой побега, как вдруг его сын и еще какой-то мальчик подбегают к нему с грибами. Растресканная каштановая шляпка, зеленый низ, ножка розовая. Все это найдено в кустах под лестницей на пляж, куда дети бегают какать.
Пишу ли я, интересуется дама. Обыкновенно, это последний вопрос обо мне, пропустив его мимо ушей, она осторожно начинает интересоваться судьбой одной своей жертвы для того, чтобы получить определенное удовольствие. Но я спрашиваю даму о судьбе другой ее жертвы, может быть, последней, для того, чтобы получить удовольствие самому. Булькает и несется от песка к тихой воде хохот. Солнце закрыто вялой дымкой с какими-то патлами, прядями, щупальцами, и мальчики держат в ладонях грибы и уходят по плотному песку отступившей Волги, красивые и сутулые от необходимости смотреть под ноги, чтобы не побиться о камни, и расставленные локти мешают им идти рядышком, и я начинаю испытывать зависть к этому простоватому прекраснодушному человеку, у которого в доме воспитываются двое таких нежных мальчиков и который не знает, что с ними делать, и держится суровым воспитателем. Догнать его. Рассказать. Помню, как еще студентом первого курса я неосторожно сознался высокой, кукольно-невинной аспирантке, что не прочел ни «Бесов», ни их братьев, и она посмотрела на меня, как на плюшевого мишку, которого обнимает по ночам несколько крепче, чем когда-нибудь обнимет мужа, и почти прошептала: «Счастливчик! Вам еще предстоит узнать такое!»
Пишу, отвечаю я, заметно запаздывая с ответом на вопрос, который ее уже не занимает. Веду дневник, и, может быть, некоторые строки сложатся в невыдуманный роман о моей судьбе. «А как дела у…» – и пока я рассказываю ей сочиненные прямо на ходу перипетии моего школьного друга, которого она прогнала от себя уже совсем потерянным, опустившимся пропойцей, она с видом печально-самодовольного участия покачивает головой и жмурится, и урчит какие-то соболезнования (не почесать ли ей шейку?). И я с восторгом и упоением удачливого сочинителя, которому все сходит с рук за увлекательностью сюжета, пичкаю ее моими фантазиями, похожими на рыбок и ромбики сухого кошачьего корма, предназначенного разбухать и разбухать в животе. Еще вовсе не отпуская, тяжелая от услады, она подводит меня к длинноногой молодухе с большими серыми глазами и желтыми прямоугольными пятнами на внутренней стороне ляжек, последствием панической депиляции перед выходом в купальных трусах.
– Моя ученица. Тоже филолог. Узнал ее. Мы оба работали в одном и том же бизнесе, самом привлекательном для негодяев, но только ее фирма громче, благопристойнее и опаснее той, из которой я недавно ушел. Еще она сочиняет в журналы мод: «Что может сделать женщину обаятельной, современной, респектабельной и гиперсексуальной? Только меховая роскошь».
– Ваша деятельность? – начинает она с вопроса, несколько наседая (потому что сидит на подстилке и ленится наступать).
У нее золотые ногти и клетчато-жилистый подъем стоп. Моя ложь будет пенистым утеплителем, который фунгиформной массой вылезает из всех щелей рассохшегося домика правды.
– Все! Я нашел себя в педагогике, – отвечаю я, отстраняя грязный совочек ее лопоухого сына, мальчика лет четырех, неинтересного возраста, возраста горшочков, сопелек, сверхзвуковых истребителей воздушных сил США из хрупкого зеленого полистирола, по которым хочется с размаху трахнуть молотком. – Я понял, что пиар – это не моя область, что только гнилоротые ублюдки еще и могут этим заниматься. Или какие-нибудь гнусные бабы. Или женоподобная дрянь, пятидесятилетние завсегдатаи гей-клубов, которые стукаются несвежими попками во время своих танцулек. Я же политикой больше не занимаюсь, и не интересно мне, кто у кого вчера сидел на коленях. Теперь я учу детей. («Чему?» – немой вопрос обеих.) Писать рассказы и стихи.
Еще немного, и они потеряют ко мне интерес, но только это ненадолго, и я должен закрепить достигнутую позицию и добиться того, чтобы меня не беспокоили, по крайней мере, до конца сезона; не звали в гости, не призывали в оправдание своей гнусности, считали просто свиньей и хамом.
– Я предпочитаю мальчиков, – говорю им, что было бы правдой, если бы я занялся литературой по-настоящему, а не заводил бы ненужных связей с поэтессами, исключительно, как Дантес, для отвода глаз, – они талантливее, чем девочки…
– Ты хочешь сказать?.. Я не даю им обеим опомниться, я наваливаюсь на этих неописуемых чудовищ всей силой злого слова, пускай несправедливого в отношении тех, кого любил, но правильного в применении к этой даме и к этой паршивой пиарше.
– Девочки исполнительны (обе кивают, ибо этим они многого добились) – но не более того. Мальчик всегда обладает преимуществом… – Я поднимаю глаза к небу, чтобы показать им, откуда что исходит. – Да, они в большей степени одарены природой, поэтому работают всегда за пределами задания. И работают очень… – Я медленно, чтобы ничего не пропустить, очень медленно опускаю глаза. Сперва суетливая чайка плывет в синеве на одежной вешалке раскинутых крыльев, затем золотятся гущей несорванных летунков недавно отцветшие липы, и ниже – мокрый песок, истыканный дождем до состояния грязной посудной губки, а на нем – бордовая крышечка моего термоса между двумя пластиковыми бутылками. В той, что побольше, – спирт. – И работают очень талантливо, – говорю я.
Может быть, прямая речь в этом отрывке несколько однообразна, но я стараюсь быть корректным и учитывать словарный запас моих слушательниц.
3
Пухленькая, кареглазая, она по пути на пляж продает маленькие пирожки. Картошка, рис, огуречки, рыбка (консервы). Она растопыривает на асфальте короткие пальцы грязных ног, но фартучек у нее всегда белый. Волосы летят прямо в кастрюльку с пирожками, изжаренными ее матерью. Этой девушке почти тридцать, но она никак не может избавиться от множества прыщей на лице. И всякий раз, как только мой сын приходит из больницы, где щадят, по крайней мере, его эстетические вкусы, она обривает его наголо, говоря: «Это чтобы на воле никто не вцепился тебе в волосы». Печальная, она всерьез переживает оттого, что у нее никогда не набирается сдачи («готовьте мелочь, я не сдам» укладывается в ямб 4). И никогда не бывает другого мужчины. Вот блядь, думаю, вот блядь! Если бы она его только стригла, но ведь… она продала ему спирт, когда он зашел к ней утром в одних трусах ниже колена. И ничего теперь не сделаешь, день испорчен.