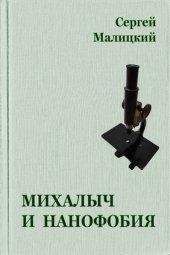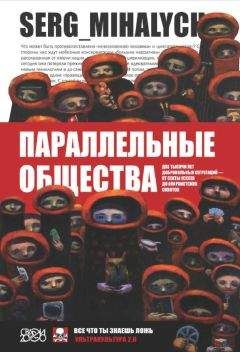Александр Уваров - Михалыч и черт
Тузик никогда не считал себя бессмертным. Просто смерти своей он никогда не придавал особого значения. Да и терять ему…
«А кости?!» вспомнил вдруг Тузик.
И тут ему впервые стало себя жалко. И захотелось заплакать.
Волк принёс его в нору. И там отпустил.
Бежать Тузику было уже поздно.
Тузик забился в самый дальний угол волчьего логова и затих там, внимательно поглядывая на Волка поблёскивавшими в жидком свете, едва пробивавшемся в глубь норы, впервые в жизни поумневшими глазами.
Волк же, устало дыша, прилёг у самого входа и стал медленно и обстоятельно глодать собачий череп (один из тех семи).
«Вот скоро и мой так глодать будет» подумал Тузик «как я когда-то кости глодал…»
Мысль о припрятанных костях всё навязчивей преследовала Тузика. Ему стало обидно от осознания того, что кости эти переживут его… и непременно достанутся кому-то другому… а хоть бы этому гаду Климу с конефермы (Клим, пёс старый и злой, с густой чёрной шерстью и длинными жёлтыми клыками, часто гонял Тузика по деревне и потому один бас его, густой и резкий, часто вгонял Тузика в тоску и беспокойство).
«А он заслужил?» со вспыхнувшим вдруг раздражением подумал Тузик «заслужил кости-то эти?!»
Череп хрустнул под клыками Волка (Волк увлёкся и сжал челюсти слишком уж сильно).
Тузик вздрогнул и вскочил, резко выпрямив лапы.
— За меня отомстят! — заявил Тузик с отчаянной смелостью простившегося с жизнью труса.
— Кто? — искренне удивился Волк и даже на мгновение перестал глодать тёмную черепную кость.
«Действительно, кто?» подумал Тузик.
И вынужден был признать, что его исчезновение, пожалуй, никто даже и не заметит.
— За тобой придут! — продолжал, тем не менее, наглеть Тузик. — Тебя выследят! Участь твоя будет ужасна! Нас в деревне много! Всех не перетаскаешь!..
— Да мне всех и не надо, — флегматично заметил Волк, отодвигая череп на место. — Так, на обед бы только хватало…
Тузик, возбуждаясь от собственных криков и жгучей обиды на пропащую свою жизнь, окончательно разошёлся и жёстко завил:
— Сдавайся!
— Чего? — несколько ошарашено спросил Волк. — Чего ты сказал? А ну-ка повтори!
— Тебе прощение будет, — тихо сказал пришедший в себя Тузик и поджал на всякий случай хвост.
«Вот он какой… конец» подумал Тузик, глядя на приближающегося к нему Волка.
— Ты это серьёзно? — спросил Волк и пристально посмотрел на Тузика.
Взгляд его был внимательный и холодный.
«Что вы, что вы…» подумал Тузик.
А вслух сказал:
— А как же! Непременно прощение будет. Я вот, если что, завсегда прощение прошу…
— И помогает? — с явной уже издёвкой спросил Волк.
— Конечно! — убеждённо заявил Тузик.
«Никогда» подумал он при этом, вспомнив, что скулёж его хозяина обычно только раздражал.
— Ну, ну… — ответил Волк с явным недоверием. — А у кого мне прощения просить? У тебя что ли, шавка дворовая?
— А хоть бы… — начал было Тузик, но тут же осёкся, решив, что слишком наглеть ни к чему. — Ну это… У кого там… Ну, кого обидел, у того и просить.
— Им это уже ни к чему, — сказал Волк, мордой показав на ряд черепов. — Они меня уже простили.
— А может… хозяева по ним плачут, — выкрутился Тузик и с наигранной укоризной посмотрел на Волка. — Или щенки там…
«Молчал бы про щенков то» с усталой печалью подумал Волк, вспомнив шесть тёплых комочков, что забивались на ночь к нему под брюхо. «Ваша порода собачья, подлая, сроду про щенков не вспоминает… А тут вспомнил, кобелина безродная…»
— У меня то хозяин знаешь какой?! — с воодушевлением начал было врать Тузик. — Да лучше его!..
— Тебя зовут то как? — прервал его речь Волк.
— Тузик, — с угодливой готовностью ответил пёс, решив, что, коли у еды имя обычно не спрашивают, то и есть его Волк прямо сейчас не станет.
— Тузик, ты сам то в белиберду эту веришь? — прямо спросил его Волк.
— В какую это? — с притворным удивлением спросил Тузик, поняв, что глупая игра его не слишком то на Волка и подействовала.
— Ну, в прощение это… Доброту хозяйскую… Веришь?
— Надо же во что-то верить, — философски заметил Тузик и всхлипнул. — Как же без веры то жить? Тяжело без веры то. Невыносимо даже. Вот так больно станет тебе… или грустно. Ляжешь у крыльца, глаза поднимешь, посмотришь на дверь. И думаешь: «Ведь не может быть, чтобы хозяин не подумал обо мне. Не вспомнил хоть раз. Хоть на минутку не вспомнил. Ведь ради чего…Чего ради то…»
И Тузик, не выдержав, разревелся.
— Ты, небось, думаешь, легко там, в деревне, живётся то? На всём готовом, под крылышком хозяйским… В конуре… с миской… Так, да? А у меня конуры даже нет! Живу где придётся и жрать не дают! Будто чужой я им. А ведь родное то место, родился там. Вырос. Служил как мог. Верен был крыльцу своему! Деревне своей! Ничего у меня другого нет, и жизни другой нет. И там жизни нет. Бьют, унижают все… А что я вам сделал, что?!!
Тузик взвизгнул и зашёлся в истеричном плаче.
«Тьфу, сволочь» с отвращением подумал Волк и отвернулся от ревущего Тузика. «Псих какой-то истеричный… Бешеный, что ли?»
И тут, будто угадав мысль Волка, Тузик пустил долгую, пенную слюну и захрипел.
— Гад! — выдавил Тузик в перерыве между хрипами. — Палач!
— Дурак ты, — ответил Волк и прилёг, закрыв глаза.
Теперь ему не то, что есть — даже смотреть на Тузика не хотелось.
«Бывают же такие» подумал Волк. «И откуда у них это берётся? От людей, наверно, переняли…»
Он знал, что люди, попав к волкам, часто плачут, жалуются на тяжёлую жизнь и просят за всё прощения.
Эта отвратительная предсмертная истерика называется «покаяние».
Волк знал, что по другому это называется — «страх».
Страх.
Липкий, холодный, с сладковато-кислой слюною и судорогой сведённым горлом.
С криком.
Согнутой спиною.
Он никогда не ел таких людей.
От них тошнило.
И ещё он думал, что страх этот куда хуже разорванного клыками горла.
И люди и псы их не заслужили избавления от него.
«Живите, живите…» подумал Волк. «Живите… Со мной, без меня. Не лучше и не хуже. Вам от самих себя покоя не будет. Собаки…»
Волк в ту ночь спал плохо.
Всю ночь Тузик плакал, выл и рычал.
— Жри меня! — вскрикивал он и Волк вздрагивал во сне. — Рви меня на куски! Ты увидишь как умеют умирать дворняги! Врагу не сдаётся… Ты думаешь, жизнь мне дорога?.. Сдалась она мне!.. А хозяин… И били меня… А жратвы то там… Доски того гляди набьют… А зимой… Последнее отберут… Собаки кругом… Ой, не могу больше, не могу! Убей меня, я сам не свой!
«Вот сволочь!» с раздражением думал Волк, переворачиваясь с боку на бок. «Уснуть ведь не даст. И как его люди терпят?»
Под утро Тузик затих.
Волк проснулся с рассветом.
Он выбрался из норы и долго смотрел на деревья, недвижно стоявшие в розовом, тихом, ровном, печальном свете.
Роса холодком с травы стекала на лапы.
Лёгкий туман серебристый плыл над поляной, таял в светлеющем утреннем воздухе.
Свет из розового стал торжественно-золотистым.
Словно печаль проходила и морок ночной отступал.
И Волку показалось на миг, будто там, далеко, какой-то неведомый, никогда им не видимый и не знаемый, но добрый и всеведущий волчий бог подарил ему этот рассвет как утешение. И память о навеки ушедших волчатах.
И решил Волк, что в нору эту он больше не вернётся.
Никогда.
Тузик проснулся поздно.
Ближе к полудню.
Волка в норе не было.
У входа в нору лежала записка.
ПРОЩАЙ, ДВОРНЯГА. БЕГИ В ДЕРЕВНЮ.
ХОЗЯИН, ВЕРНО, СОСКУЧИЛСЯ.
И чуть ниже было приписано.
СВОЛОЧЬ ТЫ, ТУЗИК. И ЖРАТЬ ТЕБЯ ПРОТИВНО.
«Это я то сволочь?» с обидой подумал Тузик. «Чего я ему сделал то?»
Возвращался Тузик в деревню по ближней просеке, стараясь не забираться в чащу.
Возвращаться в родной двор ему было отчего-то страшно. И чувствовал он себя виноватым перед хозяином.
«Зря я его за нос то цапнул» думал Тузик, искоса поглядывая на шевелящиеся под ветром кусты. «Надо бы прощения попросить…»