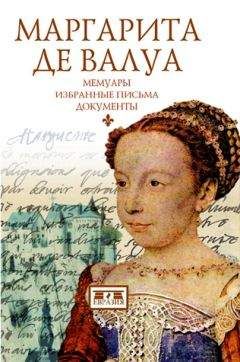Маргарита Шелехова - Последнее лето в национальном парке
— Мне жаль, неладно получилось. Я не хотела уходить.
— Теперь я знаю, но ведь разговор об этом был!
— Ты всегда говоришь только то, что думаешь?
— Нет, разумеется, но… Я прошу тебя, не поджигай ничего. Всегда успеешь сделать это, если захочешь.
— Подождать до следующего раза?
— Знаешь, мне никогда не давали поводов для ревности, — засмеялся он, — я слишком хорошенький. И вообще я многого не знал про себя. Например, того, что я форменный мазохист, поэтому и не могу уйти от тебя.
— Я знаю, что тебе было не сладко, но этот образ может вдохновлять далеко не каждого.
— У меня имеются некоторые доводы в свою пользу, еще недавно они казались тебе неотразимыми.
— Возможно, они не так уж и плохи, но завтра ты снова уложишь парочку остывших трупов между нами, и я буду мерзнуть от твоего взгляда.
— Теперь все будет по-другому.
— Это точно, мы оба это уже заметили. Кто первый, кто последний в очереди за баландой и ежевечерний шмон на нарах. Скучно жить на этом свете, господа!
— У нас всегда получалось оставаться наедине, и я не казался тебе в это время чужим мужем, не так ли?
— Не исключено, — протестировала я про себя сладкие моменты нашего бытия, — парадокс нашего существования, но покойниц на нарах не водилось, потому что зримо представить его в объятиях другой женщины я не могла. Возможно, меня спасало чувство собственной неповторимости, а, вернее всего, Пакавене была моим царством, и здесь я чувствовала себя в безопасности. Разве что иногда, в соснах пакавенского леса…
— Ты прослушал кассету, и теперь по некоторым статьям я реабилитирована. А ты уверен, что я была там предельно искренна?
— Я уверен в другом — ты звала во сне именно меня.
— Тот еще аргумент, смею заметить.
— Тот… Не тот… Да, прости ты меня, ради бога, без всяких аргументов.
— Да я уже простила, мог бы сообразить. Практические выводы вот только боюсь делать, милый мой мальчик, — думала я не без грусти, — предложить ему покурить вместе, что ли?
А мальчик тем временем ободрился и шептал мне на ушко то, о чем обычно молчат, а я вслушивалась не столько в слова, сколько в его тихий голос, и ощущение неведомой ранее потусторонней власти над этим человеком уже жгло меня, и железные генералы роняли скупые слезы друг другу на погоны, пока я сдавала Харьков, Москву и Курильские острова и, не глядя, подписывала акт о полной и безоговорочной капитуляции…
Глава 10
Меня разбудила назойливая мелодия больших наручных часов. Они сиротливо серебрились на соседней подушке, исполняя свой долг с завидным упорством.
— Какая, к черту, власть! — думалось мне в сладкой дремоте под белым потолком чужой комнаты, — денек-другой, и я буду прошибать стены только потому, что он вышел в соседнюю комнату поразмышлять над тайнами океана Солярис.
Но, кто знает, может быть, каждый раз, когда мой любимый жаждет любви, Солярис выдает ему на ином глобусе зловещего деформированного карлу, угадывая самые страстные и потаенные желания. Что же, покружимся на орбите вдвоем, лелея своего общего уродца, а когда придет срок, то я исчезну в потоке нейтронов, а он переболеет лихорадкой и вернется в родные пенаты, позабыв о солнечной Пакавене, нашем маленьком солярном рае с его сладкими запретными плодами.
— Доброе утро! Пять минут на водные процедуры и десять минут на завтрак, пока я буду собирать вещи, — грубо вторгся в мое сонное меланхолическое сознание Андрей Константинович, сверкнув сталью погон, — наши хозяева уже отбывают в Москву.
— Вырядился с утра в парадный мундир… Зачем? — думала я над умывальником, — нет бы девицу ласковым словом приветить.
Резкий ранний подъем в отпуске противоестественен и крайне вреден для здоровья. К тому же, он сразу напомнил мне то странное недавнее время, когда под давлением обстоятельств вся Москва стала ездить на работу к положенному сроку, и ни минутой позже. Столичный транспорт к красному террору приспособлен не был, и в пределах моего минимального жизненного пространства умещалось несметное количество злобных сонных особей разного пола, возраста и национальности. По возможности я становилась в метро у противоположной двери лицом в угол и блокировала стресс кубиком-рубиком, предметом параллельного мещанского мира, где в свое время были созданы кричащий пузырь «уйди-уйди», песенка «Ландыши» и дамские колготки.
Сумасшедшая истома пронзала короткими молниями расслабленное тело в перегонах между станциями, и в эти мгновенья (не думай о мгновеньях свысока!) любая сделка с дьяволом казалась желанна, предложи он упасть на соломку и уснуть на часок-другой. Но спрос у дьявола в утреннем метрополитене всегда превышает предложение, и моя скромная фигура до этого лета оставалась у нечистой силы в резерве.
После завтрака мы попрощались со своими соседями, обменявшись московскими телефонами.
— Если не трудно, положите цветы на могилу Евгении Юрьевны от нашего имени, — попросила меня Антонина Федоровна.
— Однако в наших беседах имена собственные не звучали, — немедленно сделала я стойку.
— Мы, собственно, пригласили вас вот так вот сразу, потому что двадцать лет назад провели в Пакавене медовой месяц, и, как оказалось, останавливались в той же комнате.
— И вы больше никогда там не были?
— Нет, следующим летом нам было не до этого, а потом мы решили не возвращаться туда. Сейчас у нас домик в Подмосковье, а воспоминания следует беречь.
Они уехали, а я вспомнила дату двадцатилетней давности, нацарапанную у моего изголовья под семью черточками. А что останется в Пакавене от меня через двадцать лет, когда, к примеру, Барон позвонит мне паршивым ноябрьским вечером и пожалуется, что раздобрел за последний год, как Геринг, а Баронесса, посетив, наконец, свой фамильный замок, выкрасится в радикально черный цвет — тот самый, на котором погорел Киса Воробьянинов? Не вырезать ли на фанере «Здесь были…» — простенько и безвкусно, но до этого можно будет, по крайней мере, дотронуться руками.
Алоизас был занят делами до середины дня, и мы, прихватив с утра Барона в общежитии, отправились снова в центр города. И тут Андрей совершенно бесцеремонно высадил своих седоков, заявив, что у него в городе дела — ему нужно заехать к своим коллегам, а мы можем делать до обеда, что хотим.
— Подай-ка мне папочку с моими оттисками, — сказал он мне без волшебного слова «пожалуйста», и след его простыл.
Мы прогулялись по городу, нашли уютный скверик, и Барон поведал мне свои впечатления от художественного общежития. Судя по рассказу, его астральное тело тусовалось в этой творческой среде с большим удовольствием и даже тогда, когда он лично спал. Потом мы перекинулись на параллелизм культур, и признались друг другу, что Борхеса читать, конечно, трудновато, поскольку он апеллирует к плохо известным в России литературным произведениям, но его мысли и выводы, тем не менее, хорошо понятны.
Идеи, все-таки, носятся в воздухе, как цветочная пыльца, и тексты, действительно, регистрируют вовсе не первичное соприкосновение с реальностью, а скорей соприкосновение с этими летающими откровениями.
— Слушай, — сообщил он вдруг мне со странным блеском в глазах, — в Пакавене этим летом что-то носится в воздухе. Я даже затеял новую серию нетцке — всякие домовые и прочая нечисть. Ты ничего не замечала?
— Черт его знает! — сказала я, и мы посмотрели друг другу в глаза.
— Вот именно! — ответил он, и в воздухе запахло серой. — Черт — он точно знает! Ты в шалаш за огородом не заходила?
— Нет.
— Там дети из соломы и пластилина таких уродов налепили! Суслик говорит, что это летние ноябрики.
Они с ними там в покер там играют.
Да, обмануть Барона было трудно, и недаром Суслик принимал его за соседского хулигана.
Ангела-отступника у Вима Вендерса видели на городских улицах только дети и художники, но фильм «Небо над Берлином» прошел на экранах несколько лет спустя, а сейчас я рассказала Барону о том, как увидела дедушку Сидзюса и убоялась выпасть из реальности. По его мнению, я была не права.
— В страх нужно нырять с головой, тогда выплывешь к какому-нибудь берегу.
— Если не утонешь, — закруглила я его афоризм из чистой любви к искусству и крепко попалась, потому что Барон тут же уселся насиживать любимое яйцо, и из него, как всегда, вылупился мой самый смертный грех, именуемый им гражданской пассивностью.
На фоне моего друга диссидентами могли считаться даже районные кошки — те самые, что нюхали у памятников валериану, но этого сравнения Барон мне не простил бы. Я лениво покаялась, оправдываясь отсутствием революционной ситуации, природного общественного темперамента и профессиональной увлеченностью, но он был неумолим. Попытки обсудить что-нибудь более животрепещущее, типа печальной участи потомков Штольца на плохих российских дорогах, воспринимались им в штыки до тех пор, пока я не догадалась перевести разговор в более общую плоскость, и мы обсудили гражданские страхи с позиций первых советских поколений и уже дошли до фобий семидесятников, как вдруг компания несвежих мужичков, топтавшихся через дорогу от нас у закрытой стекляшки, зашевелилась и стала просачиваться в ее прозрачное чрево.