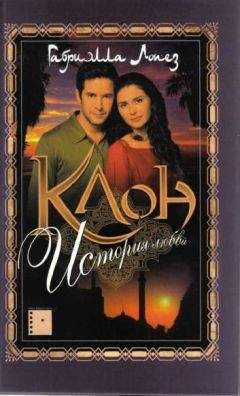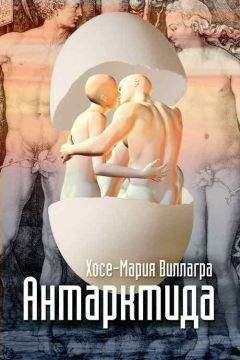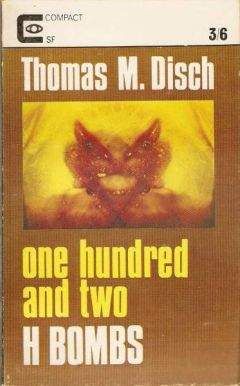Джозеф Коннолли - Отпечатки
— Что, оно было, гм — плохое? — спросила я (думая, что все это крайне забавно: он даже не попробовал — не изволил даже понюхать).
— Не имею представления, — более или менее протянул он. А потом улыбнулся. Очаровательная улыбка: такая теплая. Совершенно очаровательная. — Я его даже не попробовал. Не уходите. Я закажу еще.
— Хорошо, — сказала я. — Хорошо. Что вам принести на этот раз?
— О, — сказал он, и рука его взвилась — эдак отмахнулась, мол, не важно (он все время так делает). — Дайкири. Пожалуйста.
И я постаралась удержать его взгляд. Постаралась, чтобы он посмотрел мне в глаза и прочитал там: да, хорошо — я вам подыграю, в какую бы игру вы со мной ни играли, но если вы воображаете, что я буду мишенью для вашего так называемого юмора… что ж, тогда мне не смешно. Но он — ни в какую. Не смотрел на меня. Поэтому я только подумала: ладно — он член клуба, он платит, и если он хочет еще дайкири, я принесу ему еще дайкири. Мне несложно. Филипп, тот сказал: «Черт побери — шустрый парень. Еще дайкири? Поберегся бы он».
Второй дайкири едва удостоился взгляда Лукаса и немедленно последовал за первым.
— Не уходите, — сказал он. — Я закажу еще. Пожалуйста.
— Охо-хо, — вздохнула я. — Еще. Хорошо. Случайно не дайкири, мистер Клетти?
И тогда он посмотрел на меня, о — просияв, и так прямо (то самое мгновенье: то самое мгновенье).
— О нет, — ответил он довольно бодро. — Джин «Танкерей», пожалуйста — большую порцию — и очень маленькую чашечку теплого чая оолонг. Я смешаю собственноручно. На самом деле я… — он едва не вздохнул, пока его глаза поглощали меня, — не люблю дайкири. Лукас. Не мистер Клетти. Лукас.
Простои дешевый трюк? Вы так считаете? Хорошо отточенный способ закадрить женщин определенного сорта, проверенный тысячи раз? Может быть. По-моему, нет. Я была, ох — заворожена, и он отчетливо это видел. А позже, намного позже, когда мы были, — ну, наверное, вместе, можно сказать и так (по крайней мере настолько вместе, насколько мы с Лукасом вообще когда-нибудь будем) — он сказал мне, что заказал выпивку, эти дайкири (впервые в жизни подобная мысль пришла ему в голову) целиком и полностью повинуясь необъяснимому, но настоятельному порыву. Нечто понуждало его, сказал он. Ему было потребно, сказал он, чтобы я увидела его. Что ж. Ему удалось. Я вижу. Все время.
Он попросил меня поужинать с ним — не там и не тогда, хоть я и надеялась. Утром девушка в приемной вручила мне увесистый кремовый конверт, на котором значилось только мое имя. Внутри лежала написанная от руки записка — я до сих пор частенько ее достаю и разглядываю, странно, да? Я хочу сказать — я ведь теперь здесь? Так зачем мне смотреть на эту записку? Не знаю. Впрочем, не важно — я это делаю, вот и все (она вроде как отмечает начало начала моего превращения в ту женщину, которой я стала). Она, эта записка, была написана, как я теперь знаю, в тот самый час, когда он встретил меня, ручкой «Монблан Майстерштюк»[58] с широким пером (той самой, похожей на блестящий черный карманный цеппелин плутократа) и гласила — вообще-то довольно формально, — что он будет счастлив увидеть меня на ужине в «Конноте»[59] в тот самый вечер, ровно в восемь. Не стану говорить вам, как сложно было выкроить время в рабочем расписании — пришлось обещать всем, что буду работать сверхурочно, делать все, что им заблагорассудится выдумать, если только они вечером поработают за меня. Потому что мне и в голову не пришло, понимаете, сказать Лукасу, что какой-нибудь другой вечер — может быть, завтра? — будет куда удобнее; и уж тем более, конечно, у меня и в мыслях не было отказываться. Я пришла рано, но он уже сидел. Я молилась пресвятому Иисусу на небесах, чтобы с этим чертовым платьем все было нормально. Чесучовое, синее, как зимородок. Я больше не надеваю его, больше нет — но, разумеется, я его храню: храню в надежном месте. Мои волосы еще пахли теплом и чужим лаком (я их практически подкупала, чтоб нашли мне окно). Лукас не здоровался ни с кем в ресторане, хотя мне показалось, что его там знают. Но, если подумать, я могла и ошибаться; он точно — во всяком случае, насколько я знаю — больше ни разу туда не ходил. По крайней мере, со мной.
— Ты, — весьма небрежно осведомился он в какой-то момент, по-моему, где-то в районе пудинга, — как нынче выражаются, «встречаешься» с кем-нибудь? Состоишь в каких-нибудь, скажем так, отношениях?
— Я, гм, — я, в общем, да, — вот что ответила я.
Потому что, гм, — я, в общем, да, состояла и неожиданно поняла, насколько все это было нелепо: все эти ужины и бесплодный секс, которым я некоторое время, вероятно, занималась с Адрианом. Я говорю «вероятно», поскольку мне это ни на миг не напоминало то, каким, по моим представлениям, должен быть секс, если честно. Не как в фильмах, нет. В книгах. Потому что мне никогда особо не хотелось этим заниматься — а когда все же приходилось, я никогда не, ну — не двигалась. Он занимался сексом — Адриан занимался, он это делал, да, — а я лишь присутствовала при акте: лишь одна крохотная, темная, съежившаяся часть меня была несомненно вовлечена в механику совокупления, а все остальное пребывало странно безразличным. Умываться после и приводить себя в порядок (взбивать волосы, мазать губы помадой — может, застегивать широкий черный ремень на одну дырку туже, чем до того: я тогда затягивалась) — вот и все возбуждение, что мне доставалось.
— Что ж… — медленно сказал Лукас. Кончики его пальцев соприкасались, образуя бледный и костлявый купол. Мне показалось, он вот-вот произнесет смертный приговор, а может, балансирует на грани экстравагантного жеста (помилования, например). — Что ж, понимаешь, в чем дело, Элис: ты, знаешь ли, не должна.
— Да, — немедленно согласилась я. — Знаю. Я не должна. Я не буду.
Именно это я и чувствовала. Я правда не должна продолжать делать это с Адрианом (присутствовать, пока он это делает). И я не буду. Да, не буду. Так я ему и сказала на следующий же день:
— На самом деле, Адриан, я не знаю, «идеален» ли он для меня, как ты довольно странно выразился, или нет. Я знаю только, что не должна больше встречаться с тобой. О боже — не смотри на меня так, Адриан. В конце концов, ты же сам говорил, верно? Без конца говорил, что я не должна ждать некоего мифического мистера Идеал? Ну вот, я и не жду. Больше не жду. Может быть, он просто мистер Идеал На Данный Момент. Не знаю. Кто знает?
— Да, но я! — заорал Адриан — похоже, он и правда здорово расстроился (по какой-то непонятной причине принялся теребить волосы — и капелька слюны, смотрите, повисла в уголке его мокрых и красных губ: некрасиво — совсем некрасиво). — Я имел в виду, что ты должна остановиться на мне — а не уйти от меня с кем-то другим, в ком ты вообще не уверена. Это я для тебя не идеален, Элис, — ты должна это понимать. Если он не мистер Идеал, ты должна быть, твою мать, со мной, старая тупая корова!
Мм. Да. Ну, вы, наверное, уже поняли, что я немедленно закруглила этот бесполезный разговор. В общем, вот вам Адриан. А вот Лукас. Иногда все так просто. Не то чтобы жизнь с Лукасом может со стороны показаться (как я прекрасно понимаю) простой — но, как ни странно, мне она действительно такой кажется, знаете, Я инстинктивно понимаю, чего именно он от меня ждет, а потом я, ну — просто выполняю. В самом начале — когда отец Лукаса был еще жив, еще властвовал над всем, — я иногда гадала, не поженимся ли мы когда-нибудь. Он этого хотел — в смысле, Лукасов отец: мы неплохо ладили (возможно, он даже немного меня полюбил). Но я всегда знала, что нет. Глубоко внутри. Сперва меня это тревожило (Почему? Почему нет? Почему я не могу стать миссис Лукас Клетти? Я недостаточно хороша? В общем, все как обычно)… а затем попросту перестало. Вообще меня волновать. Потому что мы вместе, так? Настолько вместе, насколько мы с Лукасом вообще будем. Так что ж: неужели этого мало?
Я помню и ту ночь, когда он умер, Лукасов отец. Когда Лукас пришел сказать мне, от него так и веяло лихорадочным восторгом, он едва сдерживал себя (глаза горели, он казался таким возбужденным). У тебя такой вид, сказала я, словно ты только что самолично его убил, и кровь его еще свежа на твоих руках. Потому что я прекрасно знала — конечно, я знала, как страстно он ненавидит отца. Я знала факт, но никогда не знала причину. Лукас сказал просто: он умер — больше ничего не нужно. По-вашему, слишком холодно? Что ж, он это умеет, Лукас: он умеет. Быть холодным, да, и часто очень требовательным — но, конечно же, и невероятно сердечным. Сердечным, да, и (думаю, мы все это знаем) таким великодушным, таким безусловно щедрым ко всем вокруг.
Требовательным. Когда я только что сказала «требовательным» — на самом деле, это было, э, — не совсем верно. Не считая кучи правил, относящихся к Печатне (которые, похоже, являются для него неистощимым источником веселья), Лукас… он не устанавливает законов — нет-нет, это совсем не в его стиле, не в его характере. Он просто как-то дает понять свои предпочтения — часто вообще без слов, — и едва угадываешь, чего он хочет, кажется таким естественным потакать его новым прихотям. Вот, например (на самом деле, по-моему, совсем не удивительно, что именно это пришло мне в голову), сразу после того, как я переехала к нему в Печатню. В те дни мы были одни здесь — но говорили только о часе (как же ты не понимаешь, Элис!), когда здание до самых балок наполнится, как он говорил, «идеальными людьми». Но кто они, Лукас, спросила я его. Кто? В каком смысле они будут «идеальными», эти люди? О — ты поймешь, важно уверил он меня: ты их тут же узнаешь, когда увидишь. Люди, Элис, которым нужно быть здесь. Вот и все. И они — они тоже узнают: вот увидишь. Как я уже сказала, он больше почти ни о чем не говорил. Сейчас, если честно, я уже не могу толком вспомнить, что тогда чувствовала. Потому что теперь — теперь, когда мечта Лукаса воплотилась и всё здесь работает как часы — теперь сложно даже вспоминать времена, когда все было иначе. Мне порой — да, иногда мне не хотелось делиться им (хотя я знала, что все лучшее в нем остается мне), а еще бывало, что мне не верилось, будто все это действительно может случиться. Я хочу сказать — что именно? О чем мы вообще говорим? О «Баттерсийском доме собак»,[60] только для людей? Посмотрим, думала я: посмотрим, что из этого выйдет. Но это не тот пример, о котором я говорила, — пример я вам сейчас поведаю. Как-то раз, когда во всем этом огромном, темном и гулком доме были только мы двое (даже сов — и тех не было), Лукас бросил на меня взгляд — мы развели славный огонь в ту ночь, помнится мне: трещали сосновые ветки и шишки, грели и оживляли нас (мы сияли друг для друга) — и он сказал: «Знаешь, Элис, иногда мнится мне, что ты можешь казаться мне еще прекраснее». Я ничего не ответила. А потом сказала: сон и шампунь — сон и шампунь. Это, по-моему, лучшая косметика. Теперь уже он ничего не ответил. Ну, разумеется, мне пришлось, так? Как-то вытягивать из него, что он имел в виду. Можно было не напрягаться. Он вяло кивнул на чудесно упакованные свертки у стола (которые я, конечно, заметила; если честно, я — совсем как ребенок — уже некоторое время их предвкушала). Внутри оказалась целая коллекция такого вроде как нижнего белья, которое я ношу теперь каждый день, как он того хочет. Очень тесное, но оно мне идет, даже я вижу. С блестящими туфлями на шпильках — с чулками и всем таким прочим. Ему нравится, когда я подаю ему его джин с оолонгом в половине одиннадцатого утра, одетая только в них. И еще раз в шесть вечера. А потом, после каждой такой маленькой церемонии, он уходит. А потом возвращается. Так все и происходит. Да. Ладно, говорю же… это всего лишь один пример: объяснение в некотором роде.