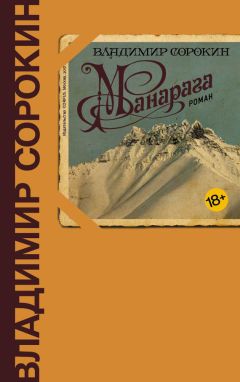Роман - Сорокин Владимир Георгиевич
Он слушал их, улыбался, отвечал, шутил, не чувствуя никакой разницы между собой и ими, радуясь, что и они, подчас увлекаясь, разговаривая, забывали об этой разнице и та толстая, веками создаваемая стена между русским мужиком и русским барином становилась совсем прозрачной.
Вдруг кто-то из них затянул песню. Пела молодая крестьянка хорошим мягким голосом:
Роман часто слышал эту песню здесь, в Крутом Яре, он знал её неспешную мягкую мелодию.
Подхватили ещё несколько женских голосов, и вскоре пели уже все бабы:
Их слитые воедино голоса звучали свободно и слаженно. Мужики, ребятишки, Роман – все, притихнув, слушали, как льётся над лугом русская песня:
Песня кончилась, и некоторое время все сидели молча.
Тишина и покой стояли над лугом.
II
15. VII. “Отчего человек хочет непременно что-то добавить к созданному Богом миру? Он пишет картины, книги, сочиняет стихи, создает философские системы, наконец, строит небывалые сооружения, как бы дополняя промысел Божий. Не оттого ли это, что после нашего грехопадения мир отошёл от нас и стоит в отдалении, а мы всеми своими книгами и картинами, симфониями и дворцами стараемся заполнить эту брешь, эту полосу отчуждения, пролёгшую между Миром и Человеком? Навсегда ли она? Мне кажется, что навсегда. Так значит, всё наше творчество – лишь смертная тоска по утерянному раю, по тому времени, когда мы были вместе с миром, вместе со всей природой, вместе с Богом? Но была ли тогда у нас свобода воли? Трудный вопрос. С одной стороны – первые, обоженные люди не знали смерти, болезней, неудобств и сомнений, и в этом была их несвобода. Но с другой стороны – выбор между раем и нераем был, а возможность выбора – уже свобода, уже автономия воли”.
Роман положил ручку, закрыл чернильницу и дневник. Полуденное солнце ярко светило за распахнутым окном, поливая зелёные кущи сада знойными лучами.
В комнате было душно. Пахло старой мебелью и засушливым летом. Роман подошёл к окну и закурил. К радости крестьян, дождя не было уже недели две, и трава, по меткому выражению Саввы, “сохла прямо на косе”.
Сенокос вступил в свою последнюю фазу, по вечерам из Маминой рощи со скрипом и пением потянулись десятки возов, и вся дорога была устлана сухими травинками.
Роман любил выходить из дома вечерней зарёю и, расположившись под дубом над рекой, слушать музыку возов. Вечером было хорошо – веяло прохладой от реки, пахло сеном…
Он затянулся и шумно выпустил дым в окно.
В мастерской стояла недавно начатая картина, но работа шла тяжело: мешала жара и ещё что-то, словно кто-то невидимый держал Романа за руки, сковывая и не пуская.
“Страх перед полотном надо топить в омуте работы”, – любил говорить Магницкий, но Роман почему-то не мог, как бывало, стряхнуть этого невидимого врага и ждал, пока тот сам оставит его. Такая осторожность отчасти была продиктована серьёзностью замысла Романа, ведь он первый раз в жизни задумал писать картину. С этюдами всегда всё получалось, а здесь – он каждый день стоял перед белой двухметровой плоскостью свежезагрунтованного холста с подробно нанесённым рисунком и, хмурясь, теребил кисти. Работа не шла, и уже неделю полотно белело в студии.
Роман курил, разглядывая сад.
Две босые девки в белых платках собирали клубнику, оглядываясь на Романа и тихо хихикая. Клубники в этом году было много, её собрали почти восемнадцать вёдер, и эти хихикающие девчата собирали девятнадцатое. Отсюда Роман мог видеть, как играет солнце в груде рубиновых ягод.
– Ромушка, молоко! – раздалось где-то внизу
Роман потушил папиросу и вышел из комнаты.
Внизу, на притенённой плющом и диким виноградом веранде за столом сидели Антон Петрович и тётушка. Было время полдника, и стол был накрыт соответственно.
– Рома, не видел ли ты из своей студии какой-нибудь тучки? – спросила тётушка, пригубливая молоко из чашки.
– Как-то не заметил, – усмехнулся Роман, садясь на своё место и придвигая стакан с молоком.
Антон Петрович, флегматично жуя землянику, листал толстый литературный журнал. Пенсне и сосредоточенность придавали его лицу угрюмое выражение.
– Как парит, – со вздохом произнесла Лидия Константиновна, глядя на заросли винограда, шевелящегося под слабым ветерком за распахнутыми окнами веранды.
– В здешних краях июль – самый жаркий месяц, – проговорил Роман, отправляя в рот земляничные ягоды и запивая их холодным молоком.
– Ну, не всегда, Рома. В прошлом году наоборот – на Духов день стояла ужасная жара, а в июле пошли дожди. А на Преображение уже три кадушки грибов насолили.
– Это не те ли грибы мы едим?
– Конечно, те.
– Замечательно вы солите, тётя.
– Спасибо, Ромушка. – Она улыбнулась своей мягкой женственной улыбкой. – Дай Бог дождичка. Сейчас и грибы, и огурчики – всё пошло бы.
– М-да… – С тяжёлым вздохом Антон Петрович отложил журнал и снял пенсне. – Печально я гляжу на наше литературное поколенье. Грядущее его иль пусто, или темно. А настоящее ужасно.
– Вы так полагаете? – спросил Роман.
Антон Петрович махнул рукой:
– Безыдейность, безнравственность, бесталанность – вот три Б, на которых покоится нынешняя русская литература.
– Дядюшка, вы слишком обобщаете, – откликнулся Роман после небольшой паузы. – Хорошие писатели есть.
– Не отрицаю, друг мой, не отрицаю. Но общее состояние плачевно. Упадок, упадок и разложение. И это – русская литература, литература Пушкина, Тургенева, Толстого! Литература, на которую равнялась Европа. Печально, печально…
Он забарабанил своими огромными пальцами по столу.
– Антоша, ты чересчур строг.
– А что ты предлагаешь? – тряхнул седыми прядями дядя. – Читать эту слабосильную пачкотню и благодушно улыбаться? Лида, я никогда не был благодушным к разложенцам от искусства. Я, может, и продержался на столичной сцене три десятилетия потому, что равнялся на лучшие образцы. И то же самое в литературе. Если мы, так сказать просвещённые читатели, будем спокойно полистывать вот это, – он поддел пальцем свисающий край журнала, – то через какие-нибудь десять лет серость и бездарность займут места Пушкина, Тургенева, Толстого!
– Дядя, а по-вашему, во времена Тургенева общий фон нашей литературы не был серым?
– Что ты, Бог с тобой! Он не мог быть серым, потому что каждый литератор относился к своему делу серьёзно. Тогда литература занимала огромное место в жизни культурного человека. Теперь же все эти писаки просто водят пером по бумаге, не переживая, не мучаясь. Да и играют так же. Мы зимою ходили в мою, так сказать, alma mater, смотрели “Антигону” в новой постановке. Боже мой… – Он покачал головой. – Бедняга Софокл в гробу перевернулся, коли глянул бы. Да что Софокл, я, грешный лицедей, еле досидел до конца. Боже, Боже мой! Что это было…