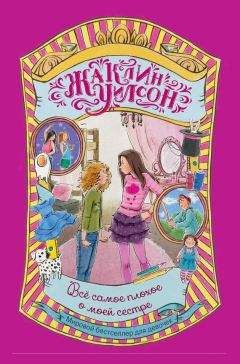Чак Паланик - Проклятые (Damned)
Он изображает бродягу? Бомжа?
Леонард отрицательно качает головой.
Я спрашиваю:
– Зомби?
Леонард снова отрицательно качает головой.
– Я пятнадцатилетний раб-переписчик, который погиб в пожаре, уничтожившем великую библиотеку Птолемея Первого в Александрии.
– А, это был мой третий вариант, – говорю я. Я дышу на лезвие своего инкрустированного
драгоценными камнями кинжала и спрашиваю, почему Леонард выбрал именно этот костюм.
– Это не костюм! – хохочет Паттерсон. – Это он таким умер.
Может, Леонард и выглядит как современный мальчик, но он мертв уже с сорок восьмого года до Рождества Христова. Паттерсон, с его футбольной формой и типично американской симпатичной мордашкой, объясняет мне это, полируя бронзовый шлем, а потом водружает шлем на свои кудри.
– А я афинский пехотинец, убитый в бою с персами в четыреста девяностом до нашей эры.
Проводя по волосам расческой, сверкая красными шрамами на запястьях, Бабетт заявляет:
– А я – великая принцесса Саломея, которая потребовала убить Иоанна Крестителя и в наказание была разорвана дикими псами.
– Мечтать не вредно, – фыркает Леонард.
– Ладно, – вздыхает она, – я фрейлина Марии Антуанетты, которая покончила с собой, чтобы избежать гильотины, в тысяча семьсот девяносто втором году…
– Врешь, – говорит Паттерсон.
– И ты не Клеопатра, – вставляет Леонард.
– Ладно, – говорит Бабетт, – меня убила испанская инквизиция… кажется. Не смейтесь, прошло уже столько лет, что я не помню.
На Хэллоуин мертвые по традиции должны не просто посещать землю, но еще и делать это в образе из своей прошлой жизни. Поэтому Леонард снова становится древним занудой, а Паттерсон – спортсменом из бронзового века. Бабетт – замученной пытками ведьмой или кем-то там еще. Оттого, что мои новые друзья мертвы уже века, если не тысячелетия, этот миг, когда мы все сидим вместе и готовимся к маскараду, кажется еще более хрупким, печальным и драгоценным.
– Ну уж нет, – говорит юная Эмили. Она шьет пышную юбку из тюля и украшает ее драгоценностями, собранными с коматозных или расстроенных до бесчувствия душ. – Не буду я ходить по домам как тупая канадка со СПИДом! Я буду сказочной принцессой.
Втайне я страшусь выйти к живым. Это первый Хэллоуин после моей смерти, и я содрогаюсь при мысли о том, сколько мисс Сукки ван дер Сукк будут бродить с петлями презервативов «Хелло Китти» на шеях, с лицами в синем гриме – дешевая пародия моего трагического конца. А что, если надо мной будут постоянно смеяться всякие бестактные личности? Я подумываю, не последовать ли примеру Эмили и не одеться ли в стандартный образ джинна, ангела или призрака. Еще можно взять свои злобные армии и заставить их носить меня повсюду на золотом кресле, пока мы гоняем по улицам всяких Злючек Стервозникус и наводим на них ужас. Или захватить с собой Тиграстика и изображать ведьму с домашним любимцем.
Леонард, наверное, почувствовал мои сомнения. Он спрашивает:
– Ты в порядке?
В ответ я просто пожимаю плечами. Если вспомнить, как я врала родителям по телефону, настроение лучше не станет.
Ад кажется нам адом именно потому, что мы надеемся найти тут рай, напоминаю я себе.
– Малая, может, повеселеешь, – говорит новый голос.
Арчер незаметно присоединился к нашей компании, и вместо костюма у него толстая папка. Он достает оттуда лист бумаги. Высоко подняв лист, чтобы все увидели, Арчер спрашивает:
– Кто сказал, что мы живем только раз?
На листе напечатано большими красными буквами:
РАЗРЕШАЕТСЯ.
35
Ты там, Сатана? Это я, Мэдисон. Извини, пожалуйста, мне надо на секундочку отлучиться в прошлое.
Смешно… Я прошу прощения у дьявола.
Лист бумаги у Арчера оказался моей апелляцией. Это такая супер-пупер-форма заявления на пересмотрение, которую Бабетт заполнила за меня после того, как стали известны результаты моего полиграфологического теста. Может быть, мою душу действительно сочли невинной, и власти предержащие решили исправить свою ошибку. Хотя скорее дело в политике: моя власть – рекруты, набранные мной с земли, и моя огромная армия – представляет для демонов такую угрозу, что они готовы меня отпустить, лишь бы не связываться. Отсюда мораль – я больше не должна оставаться в аду. Мне даже не обязательно быть мертвой.
Я могу вернуться на землю, к родителям, и прожить столько лет, сколько мне отведено. Я могу познать радости менструации, деторождения и поедания авокадо.
Единственная проблема: я сказала родителям, что мы встретимся в вечности. Да, конечно, я наплела им, что все мы попадем в рай с Буддой и Мартином Лютером Кингом-младшим, а Тедди Кеннеди будет с нами курить гашиш и все такое… но я просто пыталась их как-то утешить. Честное слово, моя мотивация была достаточно благородной. Я хотела, чтобы они перестали плакать.
Нет, я вполне реально оцениваю слабые шансы своих родителей попасть на небо. И все-таки я вынудила отца пообещать мне, что он будет сигналить из автомобиля не меньше сотни раз в день. Еще я заставила маму поклясться, что она будет постоянно ругаться матом и выбрасывать окурки на улицу. С их солидным стажем такое поведение гарантирует им проклятие. Вечность в аду – все равно вечность, зато мы снова сможем жить всей семьей.
Еще я заставила плачущего папу пообещать, что он никогда не упустит возможность испортить воздух в полном лифте. Маму я уговорила мочиться в каждом общественном бассейне, где она побывает. Божественный закон дает добро на порчу воздуха только в трех лифтах и порчу воды в двух бассейнах. Возрастных скидок не предусмотрено, так что большинство людей попадает в списки проклятых к пяти годам.
Я сказала маме, что она выглядела ужасно красиво, когда вручала эти дурацкие «Оскары», но она должна нажать Ctrl + Alt + D и отпереть двери моих комнат в Дубае, Лондоне, Сингапуре, Париже, Стокгольме, Токио и везде, где они есть. Пусть потом наберет Ctrl + Alt + С, откроет все мои шторы и впустит солнечный свет в эти наглухо закрытые и темные помещения. Отец пообещал мне, что раздаст всех моих кукол, одежду и мягкие игрушки служанкам из Сомали, которые были у нас в каждом доме, – и всем серьезно повысит зарплату. В довершение всего я попросила родителей усыновить всех наших служанок, легально их удочерить и проследить, чтобы эти девушки закончили колледж и стали успешными пластическими хирургами, налоговыми адвокатами и психоаналитиками – и чтобы мама больше никогда не запирала их в туалете, даже в шутку. Мои родители хором закричали в трубки:
– Хватит! Мэдисон, мы обещаем! Пытаясь утешить их, я говорю:
– Если сделаете, как обещали, мы будем жить одной большой и счастливой семьей вечно!
Мои родные, друзья, Горан, Эмили, мистер Плюх и Тиграстик – мы все останемся вместе навсегда.
А теперь, о боги… Меня-то в аду и не будет!
36
Ты там, Сатана? Это я, Мэдисон. Хотя ты уже и так в курсе. Если верить твоим словам, ты знаешь обо мне больше, чем я сама. Ты все знаешь – а я подозревала, что что-то здесь не так… Наконец мы встретились лицом к лицу.
Мы все одеты в свои хэллоуиновские костюмы, которые на самом деле не костюмы, за исключением наряда Эмили. Бабетт отказывается признавать, что она просто какая-то безвестная покойница. Вместо того она нарядилась в Марию Антуанетту и нарисовала себе на шее неровные черные стежки. Мы стоим на берегу Озера Теплой Желчи и ждем, чтобы нас подбросили в Реальную Жизнь, где можно запастись сладкими-пресладкими конфетными богатствами.
Когда мы уже решили, что придется сесть в какой-то грязный и противный вагон для транспортировки скота, в каких евреев возили на холокост, рядом с нами словно в замедленной съемке притормозил черный «линкольн» – тот же, что приезжал на мои похороны. Тот же самый шофер в форме, фуражке и зеркальных очках выходит и приближается к нам. В одной краге он сжимает зловещую стопку белых листов, скрепленную по краю тремя книжными винтами. Очевидно, это любительский сценарий, от которого еще издали разит голодом, наивностью, завышенными ожиданиями, абсурдным оптимизмом аутсайдера.
Держа кипу страниц перед собой, явно надеясь, что я ее возьму, шофер здоровается.
Его зеркальные очки мечутся между страницами и моим лицом, просят меня увидеть сценарий, заметить его.
– Я вот нашел свой сценарий, привез вам почитать. По дороге обратно на землю.
В этот напряженный момент утолок рта водителя дергается, складываясь в ухмылку, то ли застенчивую, то ли ехидную, и я вижу полный рот бурых мышиных зубов. Его кожа внезапно отсвечивает багровым. Он переминается и наклоняет голову, горбит плечи. Носком блестящего черного сапога для верховой езды – очень старомодного, больше похожего на копыто – он чертит в песке и пепле пентаграмму. Он затаил дыхание, и его смущение почти чувствуется в воздухе на вкус. Только я знаю не понаслышке, что едва я коснусь его кинематографического воздушного замка, он решит, что я обеспечу ему кассовых актеров, найду надежное финансирование для съемок и заключу жирную сделку по дистрибуции. Даже в Гадесе такие моменты весьма болезненны.