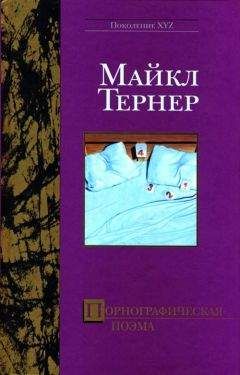Уильям Николсон - Круг иных (The Society of Others)
К тому времени, как компания разошлась, за окнами наступила темень, и мое настроение в очередной раз переменилось. Оказаться бы сейчас на тихом кладбище, лечь в могилу и умереть. Напоследок мы жмем друг другу руки, трясем головами и обмениваемся горестными улыбками, которые надо понимать так: «Жизнь тяжела: от нее умирают». Расходимся каждый своей дорогой. В свете фонарей не видно силуэтов преследователей: план удался, выживу ли я – другой вопрос.
* * *
Тихо вечером на улице, непривычно тихо. Не знаю, может, у них тут действует комендантский час и в прохожих, замеченных на улице после захода солнца, стреляют без предупреждения. Страшно тянет присесть куда-нибудь и подпереть голову руками. И лучше, если это будет под чьей-нибудь крышей, где тепло и не завывает внезапно поднявшийся ветер. Дырчатый хлопчатобумажный свитер и льняная рубашка – не лучшая защита от ночной стужи.
Прямо по курсу просматривается церковь. Небольшая входная дверь приоткрыта, и из-под нее на тротуар льется тусклый свет. Оттуда же доносится музыка. Направляюсь туда. Играет струнный квартет. На миг представилось, будто я снова дома, бреду по тропке к черному входу, на кухне играет музыка – мать любила включать радио на полную громкость. Только передо мной – не наша дверь, а небольшой ход под аркой в высокой церковной стене. Стою на пороге, укрывшись от ветра, закрыв глаза, слушаю и очень скоро понимаю, что плачу и что музыка, которая растрогала меня до слез, – самая лучшая на свете.
Глава 14
Из полумрака церкви льются протяжные дрожащие звуки. Прохожу по старинным рядам, мимо древних святынь. Светло лишь в дальней молельне, повсюду царят мрак и властная тяжесть высоких каменных склепов. «Та-та-та… Та-та-та…» Обрывая душу, плачут струны, музыка льется мрачным потоком, и все начинается вновь: я плыву вместе с ней, увлекаемый тягой к иным мирам и жаждой бесконечного движения, и плачу от собственной беспомощности, потому что у меня больше не осталось сил сопротивляться. Эта сладостно-чужая музыка уносит меня прочь от боли и воспоминаний, окуная в чистое небытие. Я плыву, как мыльный пузырь, невесомый, прозрачный, радужный. Музыка поет и пронзает, разрывая на части и ничего не давая взамен, чарующий звук скрипки крадется под церковными сводами и вздымает меня горячей струей надежды, унося вверх, прочь отсюда. «Та-та-та… Та-та-та…» Ноги словно приросли к земле, я замираю в проходе между скамьями, один, объятый музыкой, которая кружится, вертится, отступает и вновь тянет за собой. Теперь я знаю: мы ищем путь на волю, к покою, мы с музыкой, пойманные в арканную петлю вечности и жаждущие безмолвия. Мы со скрипками несемся в круговороте, снова и снова, падаем вниз и взмываем под небеса и вдруг – тишина. Касаемся прохладной щеки вожделенного безмолвия – и вновь этот беспокойный ропот, и снова грянуло! Выскальзываем из времени и возвращаемся, парим, только теперь мы парим без цели, без борьбы, без заданного маршрута. Отдаемся на милость судьбы – и неожиданно на нас опять обрушиваются громоподобные аккорды, величественные, возвысившиеся над людскими обидами и радостями, грандиозные, как горы в туманной дымке. Мгла густеет, скрывая зримое величие от посторонних глаз, и, перешагнув через мгновение, которое можно назвать концом, игра смолкает.
Музыканты расселись небольшим кружком перед приделом богоматери; возле пюпитров с нотами горят свечи. Над залом витают последние отзвуки отыгранной мелодии. На краткий миг исполнители цепенеют: сотворение музыки завершено, но жизнь еще не началась. Я, как потерянный, застыл в проходе между скамьями. Неужели эти клоуны могли сотворить такую божественность? Да они больше похожи на голодранцев из гастролирующего аттракциона, чем на музыкантов. Облачи их во все белое – получится команда ветеранов боулинга (я намекаю на весьма преклонный возраст исполнителей).
Два старика и две старухи: две скрипки, альт и виолончель. Компания как специально подобранная: одна музыкантша крупная, другая – миниатюрная, мужчины такие же. Здоровяк чем-то напоминает генерала де Голля, а тот, что поменьше, смахивает на садового гнома. Сейчас меня заметят. Я отираю мокрые щеки, а сам диву даюсь, как эти сморщенные трюфели сумели создать музыку, трогающую до слез. Это сочинение, которого мне не доводилось слышать в сознательном возрасте, лишенное четкой формы и мелодии, внушило истинный трепет. Такое чувство, что настоящую музыку я познал только теперь. Это очевидно. Раньше я поглощал звуки как удобоваримую пищу, заранее выбирая мотив в зависимости от настроения – по такому принципу детишки соглашаются есть только то, что они уже пробовали раньше. Никогда еще мне не доводилось окунаться в произведение, доверяясь внешним факторам. Впрочем, в такие ситуации я тоже не попадал. Потеря жизненных ориентиров вкупе с физическим дискомфортом и страхом перед завтрашним днем очень способствуют восприятию прекрасного. Рекомендую.
Я пробуждаюсь. Что-то внутри меня, о чем я даже не догадывался, теперь потягивается, дрожит и развертывает крылья. И как мне ни хотелось под кров, в теплые объятия сна, я бодрствую.
Садовый гном откладывает виолончель и обращается ко мне. Похоже, он со мной здоровается.
– Добрый вечер, – отвечаю по-английски.
Разумеется, такого они не ожидали. У всех удивленные лица: меня пристально рассматривают. Считается, что в свете живого огня внешность выигрывает, но к старческим лицам это правило неприменимо: колеблющееся пламя еще больше углубляет морщины.
– Вы англичанин?
Виолончелист знает мой родной язык.
– Да.
Он поднимает правую руку, словно дает благословение.
– «Быть сегодня в Англии – в этот день апреля! Хорошо проснуться в Англии и увидеть, встав с постели, влажные ветви на вязах и кленах…»*
* Р. Браунинг «Дом – мысли из зарубежья». Пер. С. Я. Маршака.
Очередной поклонник поэзии. Что творится с этой страной? Можно подумать, местных жителей в принудительном порядке заставляют учить наизусть английские стихи.
– Точно, – говорю я.
– Вы гостите в нашей стране?
Не отрицаю. Добрые глаза старика задерживаются на ссадине на моем лице и окровавленном ухе. Гном спрашивает, где я остановился, и я решаю слукавить, чтобы не шокировать почтенных людей.
– В отеле «Бристоль». – И, пока не зашла речь о цели моего пребывания, чего я никак не смогу объяснить, добавляю: – А что вы играли?
– Это Шостакович, – говорит виолончелист. – Восьмой струнный квартет. Он посвящен жертвам войны.
– Очень красиво звучит в вашем исполнении.
– Спасибо, но мы всего лишь любители. Готовимся к музыкальному фестивалю.
– Вот как? Интересно.
Ловлю себя на мысли, что неплохо бы узнать, где именно состоится фестиваль. Случаем, не поблизости от границы?
– Непременно приходите, – кивает виолончелист, окидывая меня любопытным взглядом.
На старике черная водолазка с высоким, плотно облегающим горлом, и кажется, что лысая голова, не наделенная телом, самостоятельно парит в пространстве.
– Боюсь, у меня не остается времени.
– Фестиваль уже завтра. Или вы уезжаете?
– Да. – Приходит в голову, что моей интонации недостает твердости, особенно если я говорю о собственных планах. – По крайней мере надеюсь завтра уехать.
Все четверо на меня как-то странно воззрились, словно подозревая что-то неладное. Потом принялись убирать инструменты и складывать пюпитры, больше ни о чем меня не спрашивая. Я ненадолго привлек их внимание, они узнали все, что хотели знать, больше я их не интересую. Времени у меня минуты три – потом старики задуют свечи и уйдут. Сложность состоит в том, что если я попрошу их о помощи, придется обнаружить свой нелегальный статус. Что, если меня тут же выдадут властям? С какой стати эти люди должны идти на риск ради какого-то чужестранца? И все-таки в лице виолончелиста есть нечто, располагающее к доверию: у него дружелюбный взгляд.
– У меня появились некоторые сложности, связанные с отъездом, – начинаю я, старательно подбирая слова. – Возможно, я пробуду здесь еще несколько дней.
«Генерал де Голль» кривится и с горечью говорит:
– Какие у вас могут быть сложности? Показываете паспорт и едете, куда вам угодно. В Лондон, Париж, Нью-Йорк.
– Для начала неплохо бы перебраться через границу.
На более прозрачный намек я бы не решился, но музыканты все равно не поняли.
– Я прожил на этом свете семьдесят лет, – проворчал «де Голль», – и ни разу не был по ту сторону границы. Ни разу. А ведь в молодости мечтал о Париже. Что ж, на то воля Божья.
Он бросает на меня тяжелый взгляд: счел неблагодарным слушателем.
– Счастливо добраться, – говорит маленький виолончелист.
Щелкают замки на чехлах; подхватив инструменты и кивнув на прощание, квартет гуськом удаляется во мрак. Я не пытаюсь их задержать. Захлопнулась входная дверь: музыканты ушли. Четыре свечи так и горят – видимо, их не затушили из-за того, что я остался. И что прикажете здесь делать одному, в чужой церкви? Молиться?