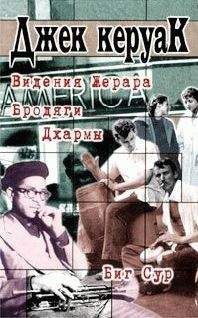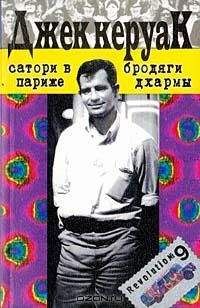Джек Керуак - Доктор Сакс
Далеко впереди, пригнувшись вдоль забора, плыл Доктор Сакс и вел меня дальше.
Мы выходим на задний двор Хэмпширов, я вижу свет в окне Дики, где он рисует смешилки, которые покажет мне в воскресенье дома, когда моя мама готовит карамельный пудинг — Я знаю, что Дики ни за что не увидит своими слабыми глазами ни Сакса, ни меня. «Дрянь», — говорю я, ругая дом, — мы поссорились после случая с плотом — через три дня помиримся, встретившись мрачными и неохотными взглядами на безотзывной тропе в темноте, и обменяемся «Тенями».
Сарай Хэмпширов был темен и огромен — Сакса он интересовал, и Сакс подплыл к краю двери, мы заглянули и посмотрели на грумусный потолок, как вдруг летучая мышь вздрогнула в грезе своей и захлопала крыльями прочь, сбрасывая красные огненные шарики, которые Сакс сдул своим дыханьем, смеясь, будто маленькая девочка.
«Наш добрый друг Кондю», — сказал он бурливым аристократическим голосом, словно бы довольный воспоминаньем о своих сногсшибательных замковых другах и недругах.
На задворках дома Делоржа, где умер старик и ночью мы с Джи-Джеем боролись под дождем, вдруг вышли шестеро в черном, неся покрытый черный ящик, поставили его, а в нем мистер Делорж, который как-то на закате луж орал на нас за какой-то мяч, в катафалк, и встали черными ногами под дождем — а Доктор Сакс и я спешили дальше под лозами, решетками и теменями дворов, по Фиби проехала машина, бросая бурые лучи фар тридцатых, к моему дому и Сара-авеню, хрустя по песчаной дороге с клочками песчанообрывистых сосен, клонившимися в пределах взброшенного света угрюмо и странно Субботней Ночью — Сакс кашляет, сплевывает, скользит дальше; я вижу, что он в самом мире, все вокруг него происходит, он отзывается лишь на собственную жизнь в мире — совсем как автомеханик. Я скольжу за ним следом, кренясь и скалясь, в какой-то момент спотыкаюсь о сад камней, кренясь и скалясь, как комедианты водевиля, пьяно палящие по кулисам из утренника для сорока семи бездомных бродяг, полуспящих в своих креслах — «Му-ху-ху-ха-ха-ха», — раздался долгий, полый, погребальный раскат глубокого и скрытого хохота торжествующего Доктора Сакса. Я и сам хехекнул, сложив ладони чашечкой, в мучительно восхитительных тенях Субботней Ночи — женщины гладили снежно-призрачную стирку в саванных своих кухнях. В гонках по булыжнику Гершома вопили детишки. Сиплая женщина, услышав неприличный анекдот, возносит визгливый громкий хохот в гудящей соседской ночи, в сарае хлопает дверь. Высокий слезливый брат Берта Дежардана возвращается по Фиби с работы, шага его хрустят по гальке, он сплевывает, в плевке его сияет звездный свет — считают, что он был на работе, а он ходил пялить свою девчонку в грязном амбаре в Дракутских Чащах, они встали у грубого сочащегося влагой дерева стены, у каких-то куч детскоговна, и распинали несколько камней, он задрал на ней платье над мурашками бедер, и они оба похотливо щерились в амбаре темного сопенья — он возвращается от нее, где поцеловал ее на ветреном холме на прощанье, и отправился к дому, зайдя лишь в церковь, где башмаки его хрустели по зерни грязного цокольного церковнопола, и он прочел пару «Notre pères»[109] и посмотрел на спины внезапно ревностных колепреклонятелей, что прихорашивались в темной своей брижке, средь печальных трепещущих нефов, безмолвие, лишь эхо предкашельков и дальние скрежетки деревянных скамей, которые тянут по камню, фрррроуп, да Бог супится в верхних гудливых воздусях —
Скользя бок о бок в темных тенях ночи, Доктор Сакс и я это знали, как и всё про Лоуэлл.
6
Мы пересекаем задний двор в темном затине вишни миссис Даффи — через два месяца, когда устроят Кентуккийские Дерби, вишневый цвет расцветет — Она хотела дерево срубить, сама говорила, потому что зачем ей, чтобы кто-то за ним прятался в темноте. Прогуливаясь, рука в кармане, средь бела дня, пока все над нею смеялись, я кивал и соглашался, что глупо с ее стороны рубить дерево. Доктор сплющился в его Тень, как мимолетное; я замыкал ряды, тшш.
Мы на цыпочках перешли к ограде и чисто перескочили ее во двор моего старого дома на Фиби-авеню — Тут живет другая семья, мужчина и восьмеро детей, я быстро гляжу, пробираясь под крыльцом, на призраков, таящихся в буром мраке грабель, старых мячей, старых газет. Вверх, смотрю на свое древнее окно спальни, где некогда, внутри, при свете, я начал свой серый и седой Скаковой Круг (1934) (первый Жокей Уэстроуп) — громыхающие судьбоносные сумраки иных смертей, что мы проживали. Торжествующий смех фырчал из неохватных назальностей Доктора Сакса, когда он вел, шагая и не выпрямляясь, сквоз траву и сорняки двора — и мы перемахнули к Марканам, процыпили по садам, вышли к сумрачному бурому боку дома Плуффов и заглянули в окно к Джину Плуффу. Я увидел тень Доктора Сакса далеко впереди, поспешил следом — он искал не ту комнату, как выяснилось, спешил поскорее исправить ошибки.
«Ах!» — услышал я его (копошась и вертясь кругами, а он столкнулся со мной, обходя с другой стороны, и сила его толчка принесла нас в одном саване к окну). Там мы и встали, подбородки на подоконнике, подглядывая под футом не-теми за Джином Плуффом, читающим в постели «Журнал Тени».
Бедный Джин Плуфф — глядя в темное окно, дабы произнести речь врагу-ковбою, но сознает пустоту, там никого — нас с Саксом недурно прятала Саванная Накидка. Она свисала огромными черными бархатными складками в кубулярных тенях двора под высокой стеной. Дом мистера Плуффа был отделан бурыми досками гонга и странными закоулками вара, которые он сам, как можно было бы решить, сделал. Он спал той ночью в собственной части дома — Вероятно, ночь-другую в неделю Джин тоже там спал, как сейчас — У множества лоуэллских семейств было по нескольку домов, нескольку спален, и они хмуро бродили из одной в другую под огромными шелестящими деревьями лета Вечности. Одеяло Джин натянул до подбородка, лишь запястья торчали, а в руках он держал «Звездный вестерн» — на обложке виднелись красновато-бурые всадники, стрелявшие из серо-голубых кольтов 45-го калибра посреди молочно-снежного небесного фона, и слова «Стрит-и-Смнт», которые всегда отвлекали твой разум от красно-бурых останцев голого Запада и наводили на мысли о некоем краснокирпичном здании, отчего-то закопченном, с большой вывеской «СТРИТ-И-СМИТ», белым, грязно-белым, возле перекрестка Стрит-и-Смит-стрит в центральном районе Питтс — бургова Нью-Йорка[110]. Сакс хмыкнул, ткнул меня под ребра. Джин увлеченно пожирал глазами красивую фразу о «Пацане Вакеро Пите, скакавшем по сухому арройо в мескптовых опустошеньях плоскогорья у Иглы, а дорога на Иглу сворачивала вбок, словно извилистая змея, что юлила через кустарниковые горбы пустыни внизу, как вдруг «Крак-Оу» в скалу звонко ударила пуля, и Пит сравнялся с пылью единым взмахом избитых кустарником наштанников и звяком шпор, и лежал гихо, как ящерка на солнце».
«Как жадно молодежь рассматривает его легенды, алчным взором, — прошептал Доктор Сакс, сильно забавляясь. — И впрямь Ко-ранны взрослого глогожества обращают этот зацеп в жальчайшую убогость. Зацеп со временем вызовет в твоем уме отвращение. Зацеп называется сроком в тюрьме. Ты впадешь в такие ярости, что и не мечтал».
«Я? Почему?»
«Ты поймешь, что когда склонишь лик свой и нос твой отпадет — это так называемая смерть. Поймешь про угловатые ярости и одинокие обыски средь Зверя Дня в жарких слепящих обстоятельствах, что обращаются в гравь по часам на часах, — это так называемая Цивилизация. Скатаешь воедино свои ноги в напряженных дурманьях десяти тысяч вечеров в обществе гостиной, на хазе — это так называемое, э-э, общение. Весь онемеешь от внутренних паралитических мыслей и скверных стульев — это так называемое Одиночество. Будешь медленно пробираться по почве в день своей смерти, а за тобой гонится Русский Медведь из Редакционной Карикатуры с ножом, и в медвежьем своем объятии он взострит тебя в красноватой крови обратно к проблеску на бледном сибирском солнце — это так называемые кошмары. Посмотришь на стену пустой плоти и разбазаришься, объясняясь, — это так называемая Любовь. Плоть твоей головы отстанет от кости, оставив бульдожью Решимость торчать сквоз точку вибрежной челюстной кости чванно-челюсти, — иными словами, ты распустишь слюни по своей утренней подставке для яйца — это так называемая старость, для которой имеются льготы. Мало-помалу ты взойдешь к солнцу, и разгонишь кости свои жестко и уверенно к громадным трудам и к огромным дымящимся обедам, и выплюнешь свои косточки, болезные хуелюбые ночи в паутинных лунах, дымку усталой пыли ввечеру, кукурузу, шелк, луну, перила — это так называемая Зрелость — но ты никогда не будешь так же счастлив, как теперь, в своей невинной бессмертной ночи мальчишества под одеялом, пожирая книги».
Джин не отрывался от чтения — мы некоторое время любовно смотрели, как вздевалась его прогнатическая челюсть, как опускался его орлиный нос, едва не удушая его экстатический рот своим тощим раундом дыхания, что свистело сквозь — Джин и впрямь перся от доброй журнальной байки. «Ничё мне так не нрацца, напаря, как навернуть кишки на добрую порцайку «Звездного вестерна», или вестернов Пита Койота, или «Тени», когда темно, он обыходит со своим соральным хмехом в тени Хранилищ Банка, да —» (временами Джин, чтоб сымитировать прозу макулатурных журнальчиков, начинал говорить, как У. К. Филдз). Вот что сказал он мне в тот день, когда свел меня вниз в бурый мрак погреба в унылом отцовском доме и мы нашли «Тени», и «Захватывающие детективы», и «Кладези»[111], валявшиеся в опаутиненных ларях. «Развей себе ума, мачик мой», — говорит Джин, вспомнив строчки из какой-то морской байки «Кладезя».