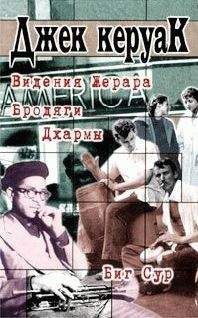Джек Керуак - Суета Дулуоза. Авантюрное образование 1935–1946
Парень с бинтом на голове взял и застрелился из пистолета, пуля вошла в одном месте и вышла из другого, бедняга даже не умер, как сам того желал, и теперь сидел, угрюмясь, в кресле, скорбно глядя голубыми глазами своими из-под бинтовых саванов, словно какой-то всамделишне-вывернутый Герой Жене. Туда одним каналом, оттуда другим. Что-то вроде коридора в мозгу. Попробуй как-нибудь. Только слишком не уповай.
Но что ж за чрезвычайное помрачнение им овладело, что он решил эдакое попробовать? Типа того, когда Флот обнаружил, что мы с Большим Дылдой прячем столовые ножи у себя в тумбочках, они приказали двум здоровенным бугаям, флотским санитарам со смирительными рубашками, прийти и взять нас под контроль и в неотложку, и на поезд, и во Флотский Госпиталь Бетезда в Мэриленде, как раз тот штат, куда хотел поехать Дылда. Поскольку я стоял и ничего не делал, два здоровых флотских санитара со смирительными рубашками говорили: «Меня мелкий этот Дулуоз не беспокоит, а вот как быть с тем громадным сукиным сыном Хоумзом? В нем шесть футов пять».
«Приглядывай за ними».
«Что они сделали?»
«Прятали столовые ножи взломать замки и сбежать».
«Милые какие флотские».
«Нам их сопровождать до самой Бетезды, так что ты полегче».
«С большим мальчиком все хорошо будет», – сказал им я.
И вот мы покидаем Военно-Морскую Базу Ньюпорт под руководством двух здоровых флотских санитаров со смирительными рубашками, в карете скорой помощи, и на поезд в Вашингтон, а Дылда – передо мной, поскольку такой большой, и все время орет мне назад: «Ты еще там, Джек?»
«По-прежнему с тобой, Дылда».
«Ты правда еще со мной?»
«Ты что, не слышишь меня?»
Той ночью в поезде до Вашингтона нас оставили одних в раздельных купе, а санитары ждали снаружи, и я использовал эту возможность пофантазировать, сиречь то есть, облегчиться от ужаса мужественности. «Сердце» и «Поцелуй» – то, что лишь девчонки поют.
VIII
А в Бетезде нас с Дылдой сначала поместили в настоящую палату для умалишенных, где парни выли койотами посреди ночи, а здоровенные ребята в белых костюмах вынуждены были приходить и завертывать их в мокрые простыни, чтоб успокоились. Мы-с-Дылдой переглянулись, два торговых моряка: «Ёксель, мальчонка, вот бы мне сейчас на нефтедобычу Восточного Техаса».
Но врачом был д-р Гинзбёрг, и он провел со мной собеседование, почитал этот полунаписанный роман, над которым все ломали головы в Ньюпорте, Р. А., и вальяжно произнес: «Ну ладно, вы себя кем на самом деле считаете?»
«Я, сэр?»
«Да».
«Я всего лишь навсего старый Сэмюэл Джонсон, я был шизиком студгородка в Коламбии, это все знали, выбрали меня вице-президентом второго курса, а я сказал, что я литератор. Нет, д-р Гинзбёрг, литератор – человек независимый».
«Так, и что это означает?»
«Это означает, милостивый государь, независимость мышления… а теперь валяйте, поставьте меня к стенке и расстреляйте, но вот от этого я не отрекусь или не отрекусь ни от чего, кроме своего стульчака, и более того, не в том дело, что я отрекаюсь от флотской дисциплины, я не то чтоб БЫЛ ПРОТИВ нее, но я НЕ МОГУ. Это примерно все, что я могу сказать о своем отклонении от нормы. Не то что я не стану, а то, что не могу».
«А почему это вы считали себя чем-то вроде Сэмюэла Джонсона в студгородке Коламбии?»
«Ну, разговаривал со всеми обо всем с литературными подробностями».
«И таково ваше представление о самом себе?»
«Это то, что я есть, чем был и буду! Не воин, доктор, прошу вас, а трус-интеллектуал… но лишь в том смысле, что у меня такое чувство, будто я должен защищать некую долю афинского этоса, как мы бы могли выразиться, а не из-за того, что я ссу, потому что я определенно ССУ, но просто не перевариваю, когда мне говорят, каким мне быть изо дня в день. Если хотите войны, пускай мужчины оголтело носятся, если вам нужна именно война. Вновь я не сумел объясниться. Я не могу принять, либо, то есть, я не могу жить с вашим представлением о дисциплине, я для этого слишком уж псих и литератор, а кроме того, отпустите меня, и я опять вернусь тут же в эту Северную Атлантику как гражданский моряк…»
Увольнение с хорошей аттестацией, безразличная натура.
IX
Никакой пенсии. Даже бески никакой. На самом деле это меня тот флотский стоматолог отвратил. Он кто вообще такой? Какой-то поц из Ричмонд-Хиллского Центра?
Х
И вот у меня осталась неделя до отставки. Стоял май, и мы теперь носили белую флотскую форму. Меня поэтому звали «Джонни Зеленые Рукава», но не потому, что локтями я отирал девичьи бока, а потому, что ошивался везде пьяный, напиваясь из бутылок с одним морпехом по имени Билл Маккой, из Лексингтона, Кентаки, в травяных парках Вашингтона.
Старина Билл ничо был.
Обычно он влет отдавал честь офицерам на улицах Вашингтона, а я пялился на него в изумленье.
Я был примерно самый невоенный парень, какие только бывают, и меня следовало поставить к кубинской стенке и расстрелять. Но потом увидишь, как я спас корабль США от бомбардировки. Через два месяца.
XI
В общем, выхожу я и ложусь вздремнуть после большого запоя с морпехом Биллом Маккоем, в своей белой форме, и работяги меня там находят, лежу на зеленой травке, на бережке, и говорят: «Ты живой?»
Я говорю: «В каком смысле, живой ли я? Это еще что за срань?»
Они говорят: «Мы просто решили, что ты мертвый. Мы честно думали, ты умер».
Я говорю: «Изыдите в сраку». А кроме того, когда моряк весь в белом не может подремать на зеленом бережке, к чему тогда живопись придет? Зеленое и белое, глянь.
У старины морпеха Билла Маккоя был дружбан – моряк, раньше таксистом работал, и вот он выглянул в окно со мной вместе в своем халате и говорит: «Там в натуре петушиная погода, вот бы мне туда». Тише едешь – дальше будешь.
Меж тем, пока я шхерился там себе с Мобилгазом, подходит ко мне один псих и говорит, что мне на земле не разрешается; я сказал: «Ты в смысле, что Сатана Стэн по земле сегодня ходит?»
Он сказал: «Чувак, он в Нью-Йорке в революционных дырах каждый день из люков вылазит».
Я сказал, что видел такое у того липового Парфенона возле Уолл-стрит. «Пар из дыр валит». Он меня спросил, почему это я столько всего про ад знаю, коли я там не обретаюсь. Я сказал: «Меня о своих героях Данте известил. А Гёте проторил путь. Паскаль проплакал всю дорогу. А хороший седой поэт Уитмен обрисовал, Мелвилл его поэтизировал, а мои друзья обсуждали его по ночам».
Он сказал: «Ты кто?»
Я сказал: «Малыш Пит».
Он сказал: «Хочешь на бильярде сыграть?»
Я сказал: «После того, как оторвусь и, может, не утоплю ничего, а ты прощелкаешь какую-нибудь дурацкую возможность, я этот первый шар нарежу в угол маленькой косой, мягкий, что твой Дьявол».
«И значит, ты – Дьявол».
«Нет, я его ветер. И от его влияния я ушел так же, как это неухватимое рукопожатье».
Вот где эта книга, эта история сворачивает.
Массачусетским янки это известно как «глубокая форма».
Смешным полузащитникам не надо торговать пепси-колой.
Книга десятая
I
Хоть я иногда просто и выглядывал в окошко палаты для безумцев и глядел на маленькую грунтовку, что вилась к западу в леса Мэриленда, уводя к Кентаки и всему прочему, в туманные дни у нее был особенно ностальгичный вид, от которого я вспоминал о мальчишеской мечте своей стать настоящим «Арканзасским Завсегдатаем Бегов» с отцом и братьями на конской ферме, сам я жокей, никакой такой дребедени с пьяной матросней, а особенно никакого сюсюканья и умничанья по отношению к Флоту, даже такого письма, что я только что использовал сам для изображения ВМФ США в последних нескольких главах, а оно было сюсюканьем и умничаньем. В возрасте двадцати одного года я мог бы много почерпнуть из верного членства в этом подразделении, может, какой профессии б научился, выбрался из этого дурацкого «литературного» тупика, в котором сейчас обретаюсь, а особенно от той его части, которая про «верность»: ибо хоть я личность и верная, нечему мне уже верность хранить, да и незачем. Есть ли разница пяти тысячам ухмыльчивых наставников по письму из колледжей, что после юности одинокой практики я написал семнадцать романов, насчитывающих больше двух миллионов слов, у окошка, а в нем звезда в ночи, у окна спальни, окна дешевой комнатки, окна палаты для психов, у иллюминатора, а со временем и у тюремной решетки? Я видел, как эта маленькая грунтовка уходит на запад к моей утраченной мечте о том, чтобы стать настоящим Американцем…
Конечно же, Большой Дылда – он бы ржал надо мной, если б услышал, что я так говорю, и сказал бы: «Перечисли все свои окна, мальчонка!»
Я изменился, пришлось подписать свое имя на бланке, удостоверяющем, что я никогда не буду подавать ни на какую прибавку, мне даже флотскую форму не выдали (славный большой бушлат, вязаную шапочку, белое, темное и т. д.), а просто вручили пятнадцать долларов поехать в центр в своей белой форме и купить себе наряд для отправки домой. Стоял июнь, поэтому я купил спортивную рубашку, и летние штаны, и ботинки.