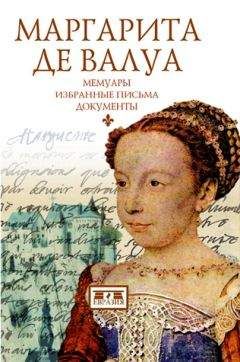Маргарита Шелехова - Последнее лето в национальном парке
Почти весь дом уже был заселен постоянными дачниками, но две комнаты — в мансарде, слева от моей двери, и на первом этаже подо мной, еще пустовали. Обои в моей светелке оставляли желать лучшего уже не первый год, но фанерная стенка у изголовья кровати, где кем-то из моих предшественников были процарапаны семь черточек, а под ними дата двадцатилетней давности, была покрыта свежей масляной краской. Эти черточки, бывало, будили мое девичье воображение, и мне мерещились на крутой лестнице мансарды легкие шаги махи и тяжелая поступь необузданного Гойи. Комната обходилась мне в тридцать пять рублей в месяц.
Пока я разбирала вещи, подошла Жемина. Она сообщила мне все деревенские новости, главной из которых представлялась предстоящая женитьба одного из ее сыновей-близнецов. К числу второстепенных относились прошлогодняя осенняя свадьба Данки, ее соседки слева, дочери пожилой Гермине, и всяческие мелкие безобразия соседей справа, Вацека Марцинкевича и Яньки, его боевой подруги. Один из ее дальних соседей продал дом и уехал на родину своего деда в Западную Германию, и Жемина купила у него кое-какую мебель, увеличив по этому поводу плату за теткины комнаты на пять рублей. Муж барменши, их дальней родственницы, зимой провалился с трактором в реку и не успел выбраться, а на днях барменша снова вышла замуж, но новоявленный отчим уже успел отколотить ее малолетнего сына.
Я сказала, что видела с дороги изрядно пополневшую Ядвигу, невестку старой Ниеле, и Жемина подтвердила, что сплетни о новой беременности Ядвиги, действительно, ходят. Сын старой Ниеле был тихим человеком с некоторыми странностями, и отцом своих двух детей в деревне не числился. В этот раз предполагалось отцовство мясника, их соседа, хотя Ядвига и годилась ему в дочери. Семья жила в ужасающей бедности, дачники к ним не шли, и подозревали, что Ядвига польстилась на бесплатное мясо. Эту невысокую молодую женщину с дерзкими глазами в деревне не любили.
— А что там за мальчишки дрались сегодня под большой сосной?
— Так то кавалеры Пупсика, — сказала Жемина, — ходят за ней всюду и дерутся. Уже большая в этом году стала!
Обедали мы со своими родственниками на террасе, пока бабушка спала, но к вечеру я еще раз зашла поговорить с ней, и мы говорили довольно долго, а потом я поднялась к себе, и сразу заснуть не удалось, потому что разговор был не из легких. На следующий день нужно было поехать в райцентр за продуктами и лекарствами, но с утра я решила пробежать по лесу и заодно проверить свой боровичок. Он был на месте, но за ночь не подрос — видимо, правду говорят, что грибы не любят сглазу. Боровичок занял место в корзинке рядом с сыроежками, а я подошла к обрывистому краю карьера и, вдохнув всей грудью свежий сосновый воздух, оглядела карьер.
Сразу подо мной внизу, в большой песчаной рытвине лежала мертвая женщина. Задранная юбка обнажала развороченный кровавый живот, и слабый ветерок шевелил разметавшиеся по песку светлые волосы, спугивая больших черных мух, облепивших неподвижное тело. Я замерла, не в силах отвести глаз от ее растерзанного тела. Вчера ее здесь не было. Да, дела…
Состояние столбняка пришло сразу же — меня с корнем вырвали из только что обретенного рая.
Наконец, с дороги донесся приглушенный соснами рев мотоцикла, и, выйдя из оцепенения, я быстро вернулась домой. В открытом окне хозяйской гостиной мне бросилось в глаза завешенное мятой простыней трюмо, потом на фоне простыни появилось сморщенное набеленное личико хозяйкиной свекрови пани Вайвы, и я узнала о смерти Евгении Юрьевны. Утром, когда я ушла, ее уже не смогли добудиться. Мой недавний ужас сместился куда-то на задний план, и само страшное происшествие утратило свою реальность перед этой смертью.
Накануне вечером бабушка, оставшись со мной наедине, попросила поставить на своей могиле православный крест.
— Ты же знаешь, Марина, мы в семье недолюбливали попов, но бог всегда был в нашем сердце. Виктор — коммунист, он не позволит Наташе, а ты потом, как-нибудь, поставь…
Последующие два дня прошли в печальных хлопотах, лил сильный дождь, а я смотрела на спокойное бабушкино лицо, и понимала, что с ней ушла целая эпоха. В небытие кануло все то, о чем я не успела спросить ее, и это было непоправимым. Я старалась стоять слева от гроба, потому что смерть что-то изменила в ее лице, и правый профиль выглядел неузнаваемо жестким. Как часто я навещала бы ее, проживи она еще хоть немного!
За гробом шло довольно много народа — бабушка приятельствовала с местными вязальщицами и пожилыми ленинградскими дачниками, и мы похоронили ее на маленьком тенистом кладбище за деревянным костелом. Тетку ошеломило пришедшее к ней старшинство — гораздо уютней на этом свете жить дочерью, но она держалась молодцом. Из колеи ее выбила только смерть мужа, последовавшая через год, когда кончились вечные заботы, и она в одночасье превратилась в одинокую несчастную старуху.
Сразу после похорон тучи развеялись, и провожающие уселись за дважды перевернутый стол помянуть усопшую по русскому обычаю — местных покойников поминают без водки. Это было тягостно для меня — поминки внушали мне в детстве необъяснимый ужас, но потом я попала в вечный плен к Параджанову, и, глядя на мир уже его глазами, поняла жизнеутверждающую силу этого действа.
Вместо рыданий у гроба приходится бегать за водочкой, вылавливать из трехлитровой банки соленые огурцы и протирать рюмки полотенцем, а вздохи присутствующих (все мы там будем!) потихоньку сменяются оживленными разговорами, и вот уже бледное тело покойника начинает вздрагивать на плохо оструганных досках под чечеточную дробь кухонных ножей, проникаясь в последний раз жаркой силой мускульного бытия.
А потом все стихает, и мелко нарезанный салат-оливье (рекомендую употреблять в нем свежие огурцы, тертую сырую морковь и краснокочанную капусту) обильно заправляется майонезом.
Ах, Иванко, Иванко! Поплыли красные кони, и ушел ты от нас. Закатились твои очи ясные, затвердели твои губы теплые, опустились твои руки скорые. И звезды светят, и тонкий месяц на небе качается, и девки на толстых подушках сны смотрят, и бесплодная жена твоя играми с колдуном тешится, и некому оплакать тебя, кроме деток твоих нерожденных и невесты твоей, утопшей в юности.
Я здесь, Иванко — за стеклом оконным, но не слезы горячие катятся по щекам моим бледным, а то вода холодная с волос моих льет, и не зайду я в хату проститься с тобой в последний раз, потому что не умеем мы плакать, и заказан нам вход в жилища людские на веки вечные. Я здесь, Иванко, с тобой, пока солнце не встало, пока петухи не запели, пока люди с постелей не повставали, чтобы опустить тебя в землю крещеную.
Я здесь, Иванко, а утром навсегда уйду в воды мутные — ведь стою я здесь у окна ночного только памятью твоей остывающей, а завтра — кто же вспомнит обо мне?
Они уйдут завтра навсегда, и все забудут о них, ведь только мы, нерожденные, вечны в этом славянском мире несбывшихся надежд, и светлым круглым облачком нетленной мечты о свершившихся помыслах, написанных поэмах, построенных храмах закружимся мы завтра над чьей-то головой, и очарованный странник будет внимать нашему коловращению, и бумага рассыплется в прах, и доски почернеют под снегом и дождем, как тайные помыслы, но мы все равно будем светить ровно и ярко, и мы должны делать это, иначе нам не родиться. Всему в этом мире есть срок…
Да, черт знает что в голову лезло, пока я сидела у краюшка стола, зорко наблюдая, чтобы всем всего хватало, и кисель был подан вовремя, и пустые бутылки исчезали, куда нужно — по части организаций общественных мероприятий я была неплохим специалистом. Когда скорбящие разбились на маленькие группки сообразно своим интересам, а я уже складывала стопочками грязные тарелки, в комнату ворвалась старая Вельма, и похороны моей бабушки тут же канули в историю Пакавене из-за следующей деревенской новости о найденном грибниками трупе.
К вечеру похолодало, полил дождь, и комната сразу стала зябкой и неуютной. Одевшись потеплее, я глядела из окна на черные сосны и мокрую луковую грядку, пока под окном не появилась темная мужская фигура.
— Эй! Пойдем, посидим у меня, — сказал мне Стасис, один из хозяйских близнецов. Летом он обитал в деревянной баньке за огородом, и сейчас там на столике красовались две бутылки пива и тарелка с холодной жареной рыбой. Хлеб я принесла из кухни, и мы сидели, пока горела свеча, и он рассказывал мне про свою зимнюю охоту и про то, как в рождественскую ночь погибла его собака, а потом я ушла и, спустя пять минут, уже выпала из времени до следующего утра.
Утром со всех сторон неслись разговоры о найденном трупе. Я очутилась в неловком положении, но решила молчать и далее. Убитой оказалась тридцатилетняя туристка из Каунаса, одинокая женщина, исчезнувшая с местной турбазы в день моего приезда. Особенно охала наша хозяйка (Вот! Скажут теперь, что мы убиваем туристов. Хорошо, хоть не русская была!), но вскоре прошли слухи, что на женщину напали кабаны, ночные хозяева здешних мест, дневавшие где-то на таинственных клюквенных болотах. Мы припомнили прошлогодний рассказ соседского дачника Николая Антоновича, крепкого старичка, бывшего соратника Туполева, о его встрече с кабанами — главное, стоять и не двигаться, — но главным было не выходить в лес в сумеречное время. На том и порешили, накачав дачных детей всяческими запретами.