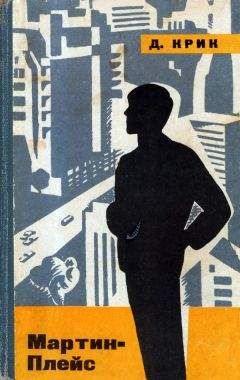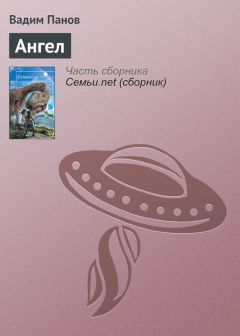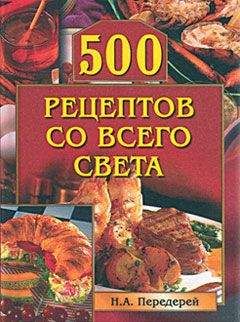Уилл Айткен - Наглядные пособия
— А ты играешь самурая, который запытал лучшего друга до смерти и отправился за ним в подземный мир?
Он прикрывает глаза, словно вся эта кровавая сага проигрывается на внутренней поверхности его век.
— Очень грустная история.
— Почти все истории о любви таковы. — Я встаю. — Пойду принесу тебе чашку.
Жестом велев мне оставаться на месте, Оро идет к тому месту, где сидел, и возвращается с серебряной бутылью сакэ — такой здоровенной в жизни своей не видела.
— Ты ведь любишь сакэ, Луиза?
— А Папа, часом, не срет в лесочке[94]?
— Прости?
— Да, я люблю сакэ.
— Ты много чего японского любишь.
Нараспев зачитываю обязательный гайдзинский список:
— Я люблю суши, палочки для еды и зеленый чай. Люблю Мисиму[95], люблю любоваться луной, люблю снежинки на рукавичках[96].
Он шутливо грозит мне пальцем.
— Есть у меня одна японская штука, ты ее не знаешь, но я уверен, тебе понравится.
— Да ну?
— Почти уверен. — Он засовывает руку глубоко в карман джинсов и извлекает на свет круглую серебристую коробочку для пилюль, инкрустированную темным нефритом.
— Мы никак «Безмятежностью» раскумаримся? — Стараюсь, чтобы голос мой звучал не так алчно.
Он поднимает взгляд.
— «Безмятежность»? Прошлогоднее старье. «Безмятежностью» уже давно никто не пользуется.
Ах, простите скромную провинциалочку. Он открывает коробку: на зеленом бархате — две прозрачные капсулы.
— Как это называется?
— «Пустота».
— «Пустота»?
— Одна таблетка вызывает одни ощущения, другая — совсем другие. По-моему, ужасно скучно. Отвратительно. С «Пустотой» ничего не чувствуешь.
Кажется, я начинаю понимать.
— И запивают это сакэ? — Беру бутылку: она холодна как лед. — Пойду ее согрею. Как думаешь, мы бутылек «уговорим»?
Он забирает у меня бутылку.
— Это мы выпьем холодным.
— Холодный сакэ?
— Холодный он восхитителен. Совсем особый сакэ. Он — с острова, где я родился, с Сёдосимы[97], что во Внутреннем море.
— Я принесу еще чашку. Он берет мою.
— Этой хватит. Будем пить из одной. Интересно, а повстречай я актера, который бы не был романтиком, я осталась бы разочарована — или Душа моя зааплодировала бы и радостно запела?
Он наполняет чашку доверху и передает ее мне. Дешевая керамика мерцает в лунном свете.
— Пожалуйста, открой рот. — Кладет капсулку мне на кончик языка. — Теперь пей.
Кроме шуток, мальчик. Делаю большой глоток. Напиток холодный, сухой, почти безвкусный. А в следующее мгновение рот мой наполняется серебром. Возвращаю ему пустую чашку.
— Отличная штука. Где можно купить бочечку?
— Этот сакэ не продается. Тебе, Луиза, я привезу множество бутылок. — Он вновь наполняет чашку и запивает свою капсулку.
— А скоро ли оно зацепит?
— «Пустота»? «Пустота» цепляет сразу, как только коснешься языком.
А. Значит, вот оно как. Я ни черта не чувствую. Милая японская шуточка?
— Нет, правда, когда оно начнет действовать?
— Говорю тебе — прямо сейчас. Оно уже действует. Даю себе слово ничего подобного не говорить. Но все-таки говорю:
— Я ничего не чувствую.
— Нравится?
— Как я могу сказать, нравится мне или нет, если я ничего не чувствую?
Он улыбается, дотрагивается пальцем до моей нижней губы.
— Ты чувствуешь Пустоту.
— Это-то я всю свою жизнь чувствую, Оро. Он смеется, хлопает в ладоши. Смешная Луиза.
— Не так. Это не настоящая Пустота.
— Не настоящая, — соглашаюсь я. — Это — ужас и паника, тревога, невзгоды и горе, семейные ценности.
— Много всего.
— Да.
— А сейчас ты все это чувствуешь?
— Кажется, нет.
— А вообще чего-нибудь чувствуешь?
— Серебро. Чистое и прозрачное.
Он снова хлопает в миниатюрные ладошки.
— Вот именно!
Я бы посмеялась, да только незачем. Да и не хочется. Есть только я, сижу, выпрямившись, на посеребренных досках, Оро — напротив, снимает свой необъятный свитер.
— Для осени очень тепло. — Теплый ветерок, словно по сигналу, ерошит мне кудри. На его черной нижней безрукавке спереди «молния». Его обнаженные руки такие хрупкие, мускулы едва обозначены, точно у мальчика. Да и сам он — мальчишка мальчишкой, в бледном свете кожа отливает голубизной: тринадцатилетний мальчишка, да и только.
Ничего не чувствую; по щекам моим текут слезы. Он стирает их тыльной стороной ладони.
— Так порою бывает. Это часть Пустоты, Луиза.
На то, чтобы меня опустошить, уходит немало времени. Но Оро умеет ждать, да, ждать он умеет. Сидит себе, подобрав под себя ноги. Когда я иссякаю, заключает мое лицо в ладони и слизывает соль. Знаю: нечто подобное он проделывал в фильме, или в телешоу, или, может, в рекламе карри, да только мне все равно. Мне плевать на все. Мальчик вылизывает мне лицо, я — растлительница малолетних; мысли, впечатления, ощущения пощелкивают у меня в голове, точно бильярдные шары, что катаются по чистому, без пятнышка, сукну и ныряют в лузы, такие глубокие, что уже не достанешь. В соседней долине или, может, через одну свистит поезд.
Тянусь к «молнии» его безрукавки и рывком дергаю вниз. «Молния» расходится аж до широкого черного пояса. От грудины почти до пупка тянется блестящий серебристый шрам, точно вторая «молния». Провожу по нему пальцем. В сравнении с остальной кожей шрам кажется прохладным.
— Это еще что за шрам? Он заглядывает мне в глаза.
— Шоссе к моему сердцу.
Ну что ж, храни свои тайны. Он такой хрупкий, такой маленький, он такой красивый, такой теплый в моих руках — талия такая тонкая, просто-таки двумя ладонями обхватишь. А я такая… такая…
Я такая охуенно здоровущая. На краткое мгновение вижу, какой я кажусь в его глазах: он — словно исследователь на крохотном паруснике, я — его Ньюфаундленд, новообретенная земля.
Вскакиваю на ноги, перевернув при этом чашку из-под сакэ.
— Луиза, что ты делаешь?
Глядя на него сверху вниз, сдираю с него безрукавку.
— Хочешь карусель?
— Да, пожалуйста.
— Вставай. — Вытягиваю руки перед собою параллельно полу. Он ничком падает на них. Весу в нем примерно столько же, сколько в пучке бамбука, только он — в два раза благоуханнее. — Готов?
— Да.
Кружу его, и кружу, и кружу. Сперва молча, только ноги по доскам шлепают, да чем больше верчусь, тем громче хриплое дыхание; стук сердца отдается в ушах. Открываю рот, чтобы радостно завопить — а наружу изливается музыка. Три голоса, — все женские, и ни один не принадлежит мне — сплетаются точно серебряные струи в стремительном ледяном ручье.
15
Кар-р!
Кеико плюхает подушку рядом с собственной, приглашая меня сесть.
Сесть — значит остановиться. Но я не хочу останавливаться. В голове у меня вперемешку звучат три поющих голоса. Отчего прошлая ночь не может длиться вечно?
Хотя от самого понятия вечность меня блевать тянет. И почему я нынче утром такая рассеянная? Что может быть унизительнее, чем сделаться романтической размазней?
— Итак, вот вам скелет истории, о которой я рассказывала на прошлом занятии.
— Скелет? — переспрашивает Фумико.
— Как в японской поговорке? — допытывается Мичико. — Красота утра становится выбеленными костями к вечеру; мир беспрерывно меняется.
— «Скелет» означает набросок в общих чертах, сюжет истории. Женщина-гайдзинка приезжает на работу в Японию и влюбляется в японца, который… э-э… работает в шоу-бизнесе. Оба знают: то, что между ними происходит, по сути дела, роман на одну ночь. — Я выдерживаю паузу, полагая, что здесь потребуется пояснение, но все вроде бы поняли. — Женщине в какой-то момент придется возвращаться на родину, для мужчины настоящая жизнь — это Япония. Но поскольку встреча их так мимолетна, а ситуация настолько безвыходна, любовь их становится все более крепкой, все более пылкой. Чем больше они понимают, что любви этой не бывать, тем больше они ее желают. А еще они ее желают потому, что любовь эта так непохожа на все, испытанное ими прежде, потому, что она существует за пределами того мира, который для каждого из них является реальностью. Они встречаются втайне, выкрадывая время, в экзотических местах.
— Важно то, что они любят друг друга, — говорит Кеико, буравя меня глазами.
— Я даже не уверена, что дело в этом. Может, самое важное — то, что оба они иностранцы.
— Вы сказали, он японец, — напоминает мне Фумико, — не иностранец.
— Он — иностранец для нее, она — иностранка для него. Каждый — воплощение неизвестности для другого. Каждый хочет…
— Вот поэтому так увлекательно! — говорит Кеико, массируя бедра.
— Вопрос в следующем, — девочки поворачиваются ко мне с открытыми ртами, — можно ли из этого сделать мюзикл, или это все ерунда на постном масле?