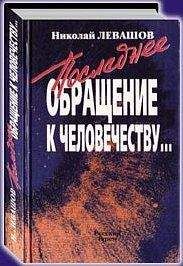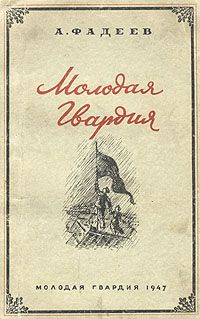Александр Фадеев - Молодая гвардия(другая редакция)
Сергей Тюленин родился, когда незачем идти в подполье. Он ниоткуда не бежал, и бежать ему некуда. Он выпрыгнул из окна второго этажа школы, и это было просто глупо, как это теперь окончательно видно. И идет за ним в жизни только один Витька Лукьянченко.
Но нельзя терять надежды. Мощные льды, сковавшие просторы Северного Ледовитого океана, сдавили корпус «Челюскина». И страшен был в ночи этот треск корабля, услышанный всей страной. Но люди не погибли, они высадились на лед. Весь мир следит за тем, будут ли они спасены. И они спасены. Есть на свете люди с орлиным сердцем, полным отваги. Это простые люди, такие же, как ты. Они пробираются на самолетах к пострадавшим сквозь пургу и мороз, они вывозят их, подвязывая к крыльям самолетов, — это первые Герои Советского Союза.
Чкалов! Он такой же простой человек, как и ты, но имя его гремит на весь мир, как вызов. Перелет через Северный полюс в Америку — мечта человечества! Чкалов, Громов. А папанинцы на льдине!
Так идет жизнь, полная мечтаний и обыденного труда.
По всей советской земле и в самом Краснодоне немало людей простых, как и ты, но отмеченных подвигами и славой, — такими, о которых раньше не писали в книгах. В Донбассе, и не только в Донбассе, каждый человек знает имена Никиты Изотова, Стаханова. Любой пионер может сказать, кто такая Паша Ангелина, и кто Кривонос, и кто Макар Мазай. И все люди относятся к ним с уважением. И отец всегда просит читать ему те места в газетах, где говорится об этих людях, и потом долго и непонятно хрипит и дудит, и видно, что ему горько на душе оттого, что он стар и что его подшибла вагонетка. Да, он много принял на свои плечи труда в жизни, Гаврила Тюленин, «дед», и Сережка понимает, как ему, «деду», тяжело, что он уже не может теперь встать в ряд с этими людьми.
Слава этих людей — это подлинная слава. Но Сережка еще мал, должен учиться. Все это придет к нему когда-нибудь потом, там, во взрослой жизни. А вот для свершения подвигов, подобных подвигам Чкалова или Громова, он вполне созрел, — он чувствует это сердцем, что он для них вполне созрел. Беда в том, что только он один на свете понимает это, и больше никто. Среди человечества он одинок с этим ощущением.
Таким застала его война. Одну за другой делает он попытки поступить в специальную военную школу, — да, он должен стать летчиком. Его не принимают.
Bсe школьники идут на полевые работы, а он, уязвленный в самое сердце, идет работать на шахту. Через две недели он уже стал в забой и рубил уголь наравне со взрослыми.
Он сам не знал, как многого он достиг во мнении людей. Он выходил из клети чумазый, только светлые глаза да белые маленькие зубы сверкали на черном лице его; он шел вместе со взрослыми, так же солидно, враскачку, шел под душ, фыркал, крякал, как отец, и неторопливо шел домой уже босой: обутка у него была казенная.
Он возвращался поздно, когда все уже пообедали, — его кормили отдельно. Он был взрослый человек, мужчина, работник.
Александра Васильевна вынимала из печи чугунок с борщом и наливала ему полную миску прямо из чугунка, который она придерживала обеими круглыми руками в тряпице. Пар валил от борща, и никогда еще не казался таким вкусным пшеничный хлеб домашней выпечки. Отец смотрел на сына, поблескивая из-под кустистых бровей своими пронзительными выцветшими глазами, пошевеливая усами. Он не дудел и не кашлял, он спокойно разговаривал с сыном, как с работником. Все интересовало отца: как идут дела в шахте, кто сколько вырубил? Отец спрашивал и про инструмент и про спецодежду. Он говорил о горизонтах, штреках, лавах, забоях, газенках, как о комнатах, углах, чуланчиках собственной квартиры. Старик на самом деле работал чуть ли не на всех шахтах в районе, а когда уже не мог работать, знал обо всем от своих товарищей. Знал, в каком направлении и сколь успешно движутся выработки, мог, расчерчивая воздух длинным костлявым пальцем, объяснить любому человеку расположение выработок под землей и все, что там, под землей, делается.
Зимой, прямо из школы, даже не перекусив, Сережка мчался к какому-нибудь другу — артиллеристу, саперу, или минеру, или летчику; в двенадцатом часу ночи со слипающимися веками готовил уроки, а в пять часов утра уже был на стрельбище, где очередной приятель-сержант учил его вместе со своими бойцами стрелять из винтовки или из ручного пулемета. И он действительно не хуже любого бойца стрелял из винтовки, и из нагана, и маузера, и «ТТ», и дегтяревского ручного, и «максима», и из «ППШ», и метал гранаты и бутылки с зажигательной смесью, и умел окапываться, и сам заряжал мины, мог минировать и разминировать местность, и знал устройство самолетов всех стран света, и мог разрядить авиабомбу, — и все это вместе с ним проделывал и Витька Лукьянченко, которого он всюду таскал за собой и который относился к нему примерно так же, как сам Сережка относился к Серго Орджоникидзе или к Сергею Кирову.
Этой весной он сделал еще одну, самую отчаянную попытку попасть уже не в специальную для юношей, а в настоящую, взрослую школу летчиков. И опять потерпел поражение. Ему сказали, что он молод, пусть приходит на следующий год.
Да, это было страшное поражение — вместо школы летчиков идти на строительство оборонительных сооружений перед Ворошиловградом. Но он уже решил, что не вернется домой.
Как он ловчил и изворачивался, чтобы его зачислили в часть! Он не рассказал Наде и сотой доли тех ухищрений и унижений, через которые ему довелось пройти. И теперь он знал, что такое бой, и что такое смерть, и что такое страх.
Сережка спал так крепко, что даже утренний кашель отца не разбудил его. Он проснулся, когда солнце было уже высоко; ставни в горенке были закрыты, но он всегда узнавал время по тому, как располагались на глиняном полу и на предметах в горенке полоски золотистого света из щелей между ставнями. Он проснулся и сразу понял, что немцы еще не пришли.
Он вышел во двор умыться и увидел «деда», сидевшего на приступочке, а немного поодаль от «деда» — Витьку Лукьянченко. Мать была уже на огороде, и сестры давно ушли на работу.
— Ага! Здорово, воин! Аника! Кха-кха-кхара-кха… — приветствовал его «дед». — Жив? По нонешним временам это самое главное. Хе-хе! Корешок твой с самой зари ждет, пока проснешься. — И «дед» очень дружелюбно повел усами в сторону Витьки Лукьянченко, неподвижно, покорно и серьезно смотревшего темными бархатными глазами на заспанное, с маленькими скулами и уже полное жажды деятельности лицо своего бедового друга. — То добрый у тебя корешок, — продолжал «дед». — Каждое утро, чуть свет, он уже тут: "Сережка пришел? Сережка вернулся?" Сережка ему… кха-кха… один свет в окошке! — с удовольствием говорил "дед".
Так устами «деда» подтверждалась дружеская верность.
Оба они были на земляных работах под Ворошиловградом, и Витька, находившийся в полном подчинении у своего друга, хотел остаться вместе с ним, чтобы поступить в воинскую часть. Но Сережка заставил его вернуться домой — не потому, что он жалел Витьку, а тем более его родителей, а потому, что был уверен, что им не только не удастся поступить в часть двоим, но присутствие Витьки может помешать поступить в часть ему, Сережке. И Витька, до крайности огорченный и обиженный своим товарищем-деспотом, вынужден был уйти. Он не только вынужден был уйти — он вынужден был поклясться, что он ни своим родителям, ни Сережкиным, вообще никому на свете не расскажет о планах Сережки: этого требовало Сережкино самолюбие на случай неудачи.
По тому, что говорил «дед», ясно было, что Витька сдержал слово.
Сережка и Витька Лукьянченко сидели за мазанкой на берегу грязного, поросшего осокой ручья, за которым был выгон для скота, а за выгоном — одинокое большое здание недавно построенной и еще не пущенной в ход горняцкой бани. Они сидели на краю балки, курили и обменивались новостями.
Из их товарищей по школе — оба они учились в школе имени Ворошилова — остались в городе Толя Орлов, Володя Осьмухин и Любка Шевцова, которая, по словам Витьки, вела не свойственный ей образ жизни: никуда не выходила из дому и нигде ее не было видно. Любка Шевцова тоже училась в школе имени Ворошилова, но ушла из школы еще до войны, окончив семь классов: она решила стать артисткой и выступала в театрах и клубах района с пением и танцами. То, что Любка осталась в городе, было особенно приятно Сережке: Любка была отчаянная девка, своя в доску. Любка Шевцова была Сергей Тюленин в юбке.
Еще Витька сообщил Сережке на ухо то, что уже было известно ему: что у Игната Фомина скрывается незнакомый человек и все на «Шанхае» ломают голову над тем, что это за человек, и боятся этого человека. А в районе «Сеняков», там, где находились склады с боеприпасами, в погребе, совершенно открытом, осталось несколько десятков бутылок с зажигательной смесью, брошенных, должно быть, в спешке.
Витька робко намекнул, что неплохо было бы эти бутылки припрятать, но Сережка вдруг вспомнил что-то, посуровел и сказал, что им обоим нужно немедленно идти в военный госпиталь.