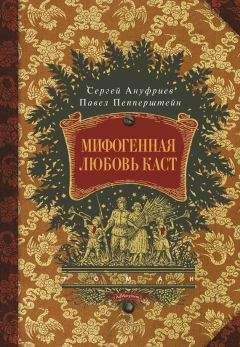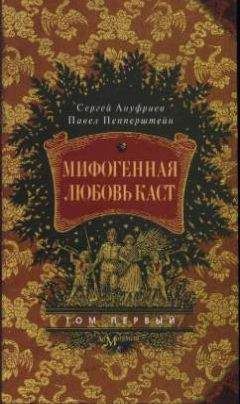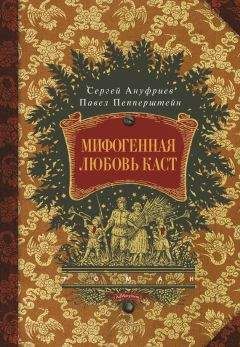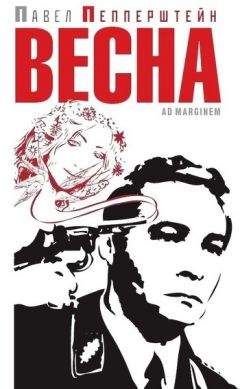Павел Пепперштейн - Мифогенная любовь каст, том 2
— Нет, душа моя, — сладко, но твердо возразил Бакалейщик. — Это твоих ручонок дельце. Моя вина лишь в том, что я его облик некогда, еще давным-давно, позаимствовал. Одолжил, так сказать, внешность. Потому как очень нравился мне Григорий Трофимыч. Я его очень сильно уважал. И любил его за кротость сердца, за честность, аккуратность и душевное смирение. Бывало, захожу к нему в магазинчик, что за церковкой Всех Скорбящих Радость, в Опреслове, за рыбным рядком. Все у него в порядке, все чисто, товар разложен, так, что любо поглядеть. Казалось бы, куда уж лучше, а Григорий Трофимыч все старается, какую-нибудь полочку скоблит или ступеньки подновляет, чтоб посетитель не споткнулся. А если кто заходит, то он сразу же от дела отвлекается, спрашивает человека, чем может быть ему полезен. И для каждого существа у него находились добрые слова, а то и доброе дело. Собаку или кошку накормит. Да и птичек кормил неустанно, все им кормушки мастерил. Если нищенка зайдет или дети забегут, он им бесплатно пряничков или другой какой снеди — всегда отсыпет. Все с ним делились своими горестями и радостями, потому как он был душа сочувствующая, сам на себя не молился. Свою жену и детишек очень любил. Чуть выдастся свободная минута — он им игрушки мастерит. И чужим деткам тоже мастерил. А как помоложе он был, так как-то раз с двумя приятелями смастерили собственноручно воздушный шар. И Григорий Трофимыч летал на нем и всю детвору с собой брал, чтобы родной Опреслов, и Воровской Брод, и Ежовку, и Ореховку, все родные края сверху детям показать. Все его любили. Даже немцы и те его жаловали. «Гуте зееле. Гуте зееле», — толковали. Что значит: «Добрая душа». Да только Григорий Трофимыч их не очень жаловал, особенно как на лютость их насмотрелся. Как партизаны стали в поселке появляться, он их подкармливать стал. Все лучшее старался им отдавать. Масло, крупу полированную. Рис. Белый рис, затем темный продолговатый узбекский рис. Затем даже рис с продольной полосочкой, с бороздкой, так называемый «бурундучок». Пшенную крупу, перловую, гречневую, ячневую, овсяную. С риском для жизни своей переправлял все это. Да, хороший был человек. И такого человека ты убил.
Дунаев, конечно же, понимал, что Бакалея в очередной раз блефует. Он ни на секунду не усомнился в том, что Григорий Трофимыч Изюмский — пустышка, лярва, манок. Нечто вроде раскрашенного птичьего чучелка, на которое ловят глупых птиц.
Он понимал, что никогда не было никакого Григория Трофимыча, не было магазина за рыбным рядком, не было воздушного шара, не было и не будет церкви Всех Скорбящих в Опреслове, а скорее всего, нет и самого Опреслова. Хотя про Опреслов он что-то, кажется, слышал и раньше.
Дунаев все понимал, но магия Бакалейщика действовала на него. Влистный зеленый взгляд испускал флюиды, похожие на жирные щупальца осьминога. Эти щупальца виток за витком вкрадчщо, скользко обнимали сознание парторга, стягивали, пеленали его ум. Все боёвые приемы, которыми пользовался лысый сквернослов, были оскорбительно просты, и тем не менее они действовали. Вульгарная ложь, легкий вульгарный гипноз, глупое колдовство, подогретое изнутри собственным безумием Бакалейщика. Кто бы ни был Бакалейщик, он был сумасшедший, И безумие его было простое и жирное, как здоровенный шмат селедочного масла.
Болше всего Дунаеву хотелось вскинуть ружье и влепить своему собеседнику из двух стволов промеж ярких зеленых глаз. Но он понимал: делать это бесполезно.
— Ну что ж, надо везти тело в поселок, — деловито промолвил Бакалейщик. — Между прочим, там сейчас партизаны. Через два дня после того, как Григорий Трофимыч бежал, партизанский отрад Яснова выдвинулся из Мизр и занял Опреслов. Так что Трофимычу не повезло. Зря он бежал. Вместо партизан встретил подонка, так называемого парторга, а на самом деле давно уже никакого не парторга, а просто лесного бандита, ренегата, потерявшего человеческий облик. И от рук этого недочеловека, от рук этого недосущества принял он смерть здесь в гнилом месте, где лес более всего нечист, о чем всей округе знамо. Заблудился Григорий Трофимыч, а иначе разве пошел бы он к Гнилой Избе? Ну да тебе, Дунаев, придется за убийство невинного человека ответить. Перед партизанским судом. Будешь ты в петле вскоре болтаться, как окунек на удочке. Так что бери труп на плечи и иди за мной. Пойдем в Опреслов. — Бакалейщик закончил речь сурово, уже без усмешек. Закинув гитару за спину, он зашагал куда-то. Дунаев почувствовал, что должен следовать за ним.
— Я партизанского суда не боюсь! — крикнул он. Затем взвалил на себя труп Изюмского, ружье повесил на шею и двинулся вслед за врагом.
глава 12. Лук
Бакалейщик через какое-то время вывел Дунаева на просеку, где стояла лошадь, запряженная в телегу. Они забрались в телегу и поехали. Бакалейщик сел за кучера. Как-то очень незаметно добрались они до Опреслова. Дунаев дороги не заметил, убаюканный вражьими чарами. Сонливость и равнодушие овладели им. Сонливость и равнодушие источалось согбенной спиной Бакалейщика, изредка потряхивающего вожжами, и его мохнатенькой безразличной ко всему на свете лошаденкой. Сонливость и равнодушие источал труп никогда не существовавшего в реальности Трофимыча, доверчиво уткнувшийся Дунаеву в плечо своей поцарапанной лысиной. Парторг откинулся на дно телеги и спокойно смотрел в далекие плывущие небеса. Солидное мутное солнце медленно клонилось к закату. Не успел Дунаев уснуть, как они приехали.
Поселочек оказался маленьким — домов двадцать вокруг рыночной площади. Все дома кособокие, двухэтажные, сзади погрязшие в огородах, из которых замшелые тропинки уходили в лес. Среди пустых рыночных рядов стояли какие-то люди с оружием — видимо, партизаны. Над городом возвышался одинокий тусклый лиловато-желтый купол, увенчивающий высокую кубическую церковь, к которой снизу пристроена была еще деревянная галерейка и штук восемь крылечек. На церковном куполе развевался красный флаг.
— Это наша Церковь Всех во Земле Русской Скорбящих Горькими Слезами, — гордо сказал Бакалейщик, распрягая лошадь. — Здесь служит известный старец отец Лука. Всем он посылает дар горьких покаянных слез. Так что, Дунаев, если остался в тебе огрызок души, то сходи к нему. Он тебя соборует перед казнью, и ты очистишься слезами…
Дунаев посмотрел в сторону церкви и увидел, что у ее крылечек стоят разные люди — в основном низкорослые, с чемоданами и палками. Все лица мокры от слез, припухшие глаза красны. Посреди рынка возвышалась виселица, где висело пятеро повешенных. Четверо — немецкие военные. Среди них выделялся повешенный в генеральской форме. На его поникшей голове ветерок играл седыми волосами. Пятым был повешен клоун с раскрашенным лицом, в пестрых шароварах, с ног до головы покрытый помпонами и бубенчиками. На шее у клоуна висела дощечка, на которой было четко написано:
«Денис Ярбушев, актер цирка и комедиант, развлекавший фашистских извергов».
— Здесь, в мире слез, нет места смеху! — произнес Бакалейщик и нагло захохотал, дрыгаясь.
Дунаев в этот момент осознал, что весь этот скукоженный и пропитанный едкой вонью мирок, весь этот так называемый «Опреслов» — все это создано Бакалейщиком, его низкопробным колдовством, и цель у всего этого одна — издевательство. Он внимательнее глянул вокруг. Все окрест молчаливо орало о своей ненависти к реально существующим вещам. В огромном, настежь распахнутом окне ближнего дома рослая широкоплечая баба дула в раскрашенное блюдце. За ней виднелась большая, пустая комната с дощатым полом — в углу с потолка свешивался немец, подвешенный за ноги. Голова его была погружена в ведро с рассолом. Из других окон выглядывали люди, настолько плохо сделанные, что ясно угадывалось, что тела их обрываются там, где их заслоняют подоконники с геранью.
Но самой омерзительной деталью этого фальшивого, наспех изготовленного мирка была вонь. Собственно, вонь не была деталью — она была главным содержанием мирка: она присутствовала здесь повсюду, въедливая и тяжелая, , как бетонная плита. От этой вони дико заболели глаза, как будто по ним хлобыстнули кнутом, и слезы сами собой заструились по щекам парторга. Едкие слезы, как будто пропитанные перцем и уксусом — они обжигали кожу.
Бакалейщик хохотал, указывая пальцем на слезы Дунаева, и причитал:
— Покайся, милок, покайся! Огрызку души легче станет перед смертью.
Дунаев увидел, что какие-то фальшивые люди, небрежно стилизованные под партизан, уже приближаются к нему с петлей в руках. Владимир Петрович понимал, что стрелять в них бессмысленно — эти люди были одной лишь видимостью. Видимость эта дробилась и трепетала в потоке горьких слез. Он понимал, чем его будут душить. Совсем не петлей, потому что не было никакой петли. Вонью. Его будут здесь душить и убивать вонью. Смрад с каждой минутой сгущался, наваливался на тело. И безудержнее становился поток жгучих слез. Парторг, казалось, обречен изойти слезами, выплакать из себя всю свою жизнь. И не было сил бежать, бороться, предпринимать что-либо…