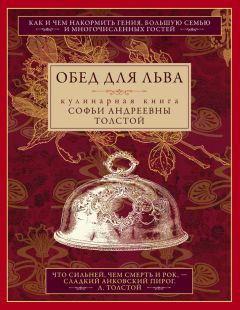Софья Купряшина - Видоискательница
Я чувствую себя настолько without, что тошнит; именно without — с пустотой; подвешенной между двумя предлогами. Еще лучше — without nothing. Вечное балансирование между холодной стерильностью и непринужденной ерундой, многомыслие вне структуры, семантические смещения, связующий материал — нить растянутой жвачки и обугленные канаты. Дозы, дозы, девочки. Дозы — того состояния, которое невоспроизводимо? Завязать себя в узел, вынуть мозги, отжать, как белье, повесить на гвоздик и дать им как следует по роже, чтобы нормально работали. Тоталитарные установки подсознания. Наследственность. Бесперспективная любовь. Асоциальность. Неразборчивость в связях. Бронхит. Бытовое пьянство. Асимметрия лица. Жвачка в виде сигарет. Сексуальные извращения; но я повторяюсь — давно повторяюсь; головная боль, стакан с желто-зеленым кругом от растворимого кофе и коричневым — от стола; сложный по химическому составу ужин с доминантой воды; нарушение реакций торможения и возбуждения. Желтый графин. Боже праведный, я лежу на постели в сапогах, в ушах у меня вата, во рту — луковый вкус салата. Завтра я вместе со всеми запою утреннюю веселую песенку, но. Боже, скажи мне, тебе было хуже?!
И я слышу: «Да. Да, девочка моя. Не накручивай себе мозги. Ты ляжешь, проспишься, завтра проработаешь все, и я дам тебе награду в тот момент, когда ты меньше всего будешь этого ожидать».
Я видела тень дерева на красной освещенной стене барака № 1. Пахло хвоей, дымной смолой, звякали голосочки моих девочек — они что-то там праздновали, дай Бог им здоровья. Но они не пили. Это мы пьем, старые бляди, а им не нужно.
Они пели: «Ой, мороз, мороз…» И пахло хвоей.
Я засыпала.
*Утром я снова увидела его лицо. Это была сосна, после потепления покрытая матовой снежной пленкой. Это был цвет лица того дворника или моего дворника, у которого я, дворница, не смела бывать чаще раза в месяц. Он гневался. Он сходил на нет. Говорили: краше в гроб кладут. Стальное лицо, где щетина нечитаема, тем паче седая, я видела и правда в гробу, проснувшись от звуков похоронного марша. В нашем доме хоронили человека с таким лицом — в восемь часов утра, и я смотрела с балкона на это лицо, утонувшее в белом. Гулко звучали инструменты, ибо наш переулок всегда пуст.
Снежный ком упал передо мною грозной от хотения вестью. Я стала набожна. Дай Бог, я говорила, дай Бог, — не всуе, о нет, — дай Бог здоровья стальному тому человеку.
И я снова бежала по снегу, набирая в короткие сапоги горы сырой сковывающей стали, и ноги мои ныли; я бежала в бессмысленной тяге бежать, как бежим все мы — для жизни, до того дерева, чтобы обнаружить перед ним — в нем — свое краткое пристанище и далее искать деревья в платиновой пелене всю жизнь — и летом, сходя с ума от зелени и запаха травы, от ужаса горячего деревянного солнца.
На другой день бывает либо плохо, либо то, чего ты не ждешь. Вот тот самый икс, для которого и бывает плохо; переменный свет, зеркальная плоскость попадания.
Мои люди
…образ и голос встретились, идя с противоположных сторон,
чтобы пересечься в его внезапно пробужденном сознании.
X. Кортасар, «62. Модель для сборки»Это был не ресторан «Полидор», а простая таллинская кофейня с высокими круглыми стульями, сомнительными сигаретами «американского типа» и мармеладом. Было снежное море, песок, и выдавались по просьбе свечи. Это было место, время и состояние переходности. Не тьма и не свет, зеленый гул — работа воздуха перед тем, как упасть ночи, тот час, когда удлиняются взгляды; внезапная контурность шпиля и коричневый пушистый свет стилизованного нутра кофейни. Тугая дверь, яркие мхи интерьера, гора блестящих чашечек, мой акцент: «Юкси кофэ», ее — понятливое: «Все?» (расколола). «Фсо», — я держу роль, но зачем этот бессмысленный риск — из любви к риску как таковому? Пристальность воспринимается как профессионализм, но другой профессии. Бог с вами, гражданин, уберите ваши тугрики и руки, дайте сосредоточиться.
Жидкие снутри, тепловатые озерца помятого синего воску видятся мне на керамическом блюде; они выглядят питательными, как шоколад (но синий цвет несъедобен!) — та же пленочка — тепло-жирная, дающая бесподобные отпечатки пальцев — до того вкусна и осязательно приятна. Ну вот, догорает бутыль синего стекла — вечернее вино Таллина, догорает и этикетка, особенно сладко дымясь и напоследок уточняя литеры; вот ее не видно уж — пепельный пласт — невесомая кора — топнет и тонет, тяготея к воску. Фитиль возвышается в лужице, раскачиваясь, как приморская сосна. Вот уж и догорел. На нёбе — прозрачная пластинка «Балтики», да часовой стук «Under tha-a-at!»
Сморщенные пятнисто-сиреневые кулачки робко выглядывали из широких и рваных рукавов ее свитера; рукава эти побывали во всех блюдах, а грязненькие пальчики, дрожа, отламывали кусочки запеканки, облитой чем-то спермообразным. Двое Здоровенных наблюдали ее нерешительные пассы в сторону колбасы…
Утром он дал ей рубль. О, рубль. На него можно купить целый вкусный кусок запеканки и двойной кофе и сигарет(т)… Она не смела просить больше рубля — маленькая, исчерченная любовью робкая девочка, и она понимала кое-что в лесбосе.
Сколько раз я видела эти картинки! И каждый раз впивалась, как впервые. Мне показалось, что этих людей что-то притягивало ко мне — или притягивала их я… Я чувствовала как-то странно, не по-дарвински, что происхожу от них; их странности были мне понятны; более того: приятны; смущенная раскованность, безденежье, бездомность, безвременье, вечное выживание, и риск, и аферы разного разбора, и кутежи; преодоление — в концентрированном виде; ежеминутная готовность к концу и началу — Света и собственному — античная философия максимальной завершенности (совершенности) дня.
Пестрая стая полулюдей окружила меня как свою, хотя я ни для кого не была своей; они были русские. Старик в рассыпающейся шапке с висящими клочками меха над цветным платком читал мне громко и удивленно: «Россия! Зачем я пришел к тебе?..», молодой — с полуседым хвостиком вьющихся волос — явно на игле — грустный и милый — предлагал бутерброд с колбасой; все откусывали его по кругу, начиная с меня; третий — дяденька Полтинник — очень с подбородком, который я люблю кусать и слушать хруст щетины, — протягивал мне пиво в бутылке с отбитым горлышком — его дозу. «Хотите?» — Движение маятника. Он протягивал мне острогранный сосуд со слюдой микроосколков открыто, хорошо, как ребенок — носочек, как собака — косточку, — бесполезное другим обоюдоострое счастье.
И надо было отглотнуть — я была в кольце моих родственников — и первый раз меня не предавали, не просили, не искали выгоды, а — любовались своим подобием; и я раскрылась, я засверкала, и мы всплакнули в обнимку с той девулей с вывернутыми и искусанными губами; потом принесли еще что-то, напевая и декламируя, и когда я начала целовать всех без разбора, я еще не понимала, что целую бумагу.
Смотрины
Медея Гурамовна Материдзе, местная блядь и пьяница, осенью решила устроить смотрины своим дочерям. Дочери ее, Наталка и Патлатка, тоже были бляди и каждый вечер принимали кого-то, разного цвета, которые выходили оттуда, покачиваясь от счастья, с долго непадающими хуями. Она строго наказала дочерям никого не принимать в ее отсутствие и хорошо себя вести, на что Патлатка, стряхнув с себя собачку Блядку, ебущую ее правую ногу, скромно кивнула, и Наталка тоже кивнула, соединив наконец ноги, опустив юбку и вынув руку из трусов. И Медея Гурамовна поскакала за провизией и выпивоном. Она оседлала было коня Блядину, но конь прогнулся под ее тяжестью, провис до земли, как старый гамак, стал выламываться, ноги у него подломились, и рухнул он прямо на голую землю. Ничего не сказала Медея, только подняла юбку, поправила чулок, помочилась на лошажью морду, взяла велосипед и поехала с рюкзаком в гастроном. Колеса велосипеда под ее тяжестью превратились в эллипсы, отчего он мерзко подскакивал, а узкая часть седла не терлась о клитор, как обычно, а больно в него ударялась. Но Медея не заметила дискомфорта, потому что у нее была цель, а она всегда добивалась поставленных задач. Приехала она с рюкзаком, полным копченых нарезов, ветчины, зелени, фруктов, мяса на шашлык, с одиннадцатью бутылками «Русского сувенира» и одной — чачи, заткнутой бумагой, на случай если грузин придет. Грузин не пришел, зато пришел дядя Толя — хищный, злой, высокий, смуглый, длиннопалый и длинноногий, немного сутулый, с большим фиолетовым ртом и блядскими зелеными глазами. Был он сед и уже немолод, но достаточно ебок и нравился обеим девкам страшно. Наталка и Патлатка его обступили и стали облизываться.
— Привез чего из города, дядь Толь?