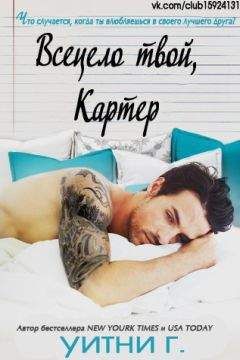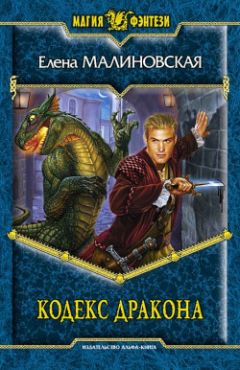Андрей Ханжин - Глухарь
Бугра этого, Бурята, мусора били долго и методично, в результате чего ему не оставалось иного пути, как либо смириться с тем, что он петух, либо брать заточку и попытаться вынудить меня признать обратное. На этом, собственно, и строился примитивный легавый расчет. Я этого ждал и когда четверо на промзоне стали обступать меня, электрод в моих руках оказался не случайно. Сначала пырнули меня, потом пырнул я. На этом все закончилось. Бурят, к сожалению, выжил.
Знаешь, не могу сказать сейчас с достоверностью о чем именно я думал лежа на откинутой наре карцера, пока дожидался этапа в Воронежскую тюрьму за новыми годами к старому сроку. Наверное мне было немного грустно расставаться с детством, хотя и случилось оно таким корявым и совсем не радостным… Наверное именно поэтому я до сих пор сохраняю в себе наивную мечту о том мире который мне очень хотелось бы увидеть хотя бы после смерти. Понимаю что раем грезят те, у кого настоящая жизнь не сложилась… Но, все-таки, хотелось бы оказаться в таком мире, где каждый из нас предстает в своем настоящем обличье. Где у каждого есть тайное место, в котором он сможет оставаться наедине с тем, что так любил в этой жизни. Мир без выдуманных правил, без лицемерных условностей, где все подчиняются только одному закону Личной Справедливости. И… я не беспокоюсь о том, что этого мира может не существовать вовсе, и впереди лишь распад легких, морг, казенный гроб, могила, тление… Это не так важно, брат! Главное, жить в своей мечте до последнего дыхания! Верить в эту мечту. И только в этом случае жизнь чего-либо стоит. Только в этом случае жизнь имеет смысл.
Тюрьма — ожидание нового дня,
За то, что сегодняшний прожит был зря.
Тюрьма — это ждущие радости лица,
Способные лишь проклинать и молиться
Пред образом календаря.
Тюрьма — это высшая мера свободы!
Разбитая вдребезги вера в добро.
Тюрьма — это ворон вонзивший перо
В евангелие небосвода.
Ее не ищи… Никогда не ищи.
Мгновение вытянуто на века.
Тюрьма — это сборище мрачных мужчин
Мотающих дни от звонка до звонка.
Наверное, в этом коварный урок;
Унылый, постылый, бессмысленный сон…
Тюрьма — это жизнь превращенная в срок.
И все.
Не люблю рассвет. Он всегда напоминает мне о чем-то ушедшем безвозвратно… Наверное через полосу рассвета проходит граница между моим кажущимся безразличием к жизни и тем, чем эта жизнь могла бы для меня стать.
Вот, говорю с тобой корявым языком воспоминаний и с каждым словом понимаю, что тайное устройство механизмов частной жизни, намного любопытнее тайн человеческой души. Способы обогащения и истории краха коммерческих предприятий куда более волнуют опустошенные умы, нежели описания природы, если даже это природа человеческой жизни. Никому больше не нужны легенды. Всем вдруг стали необходимы справочники. Наверное это правильно. Знаешь, брат, весьма сомнительной представляется мне мудрость старого каторжанина, познавшего жизнь в одних лишь пределах строго охраняемой территории. Один человек рассказал мне историю о слепце который прозрел на одно короткое мгновение и снова погрузился в слепоту. Но в тот миг, когда на секунду открылись его глаза, он увидел голову индюка. С тех пор все происходящее с ним он объяснял сообразно с этим представлением. Во всем усматривал он голову однажды увиденного индюка. Так и я, подобно тому слепцу, во всем вижу только тюрьму и только тюрьму. Чтобы ни произошло, меня так и тянет разобрать произошедшее по понятиям, а между тем, случившееся может иметь совершенно иные причины, лежать в области абсолютно иной морали, преследовать иные цели и, следовательно, иметь противоположное значение. Это все равно что пытаться определить и спрогнозировать рост цен на нефтяной бирже по степени опьянения водопроводчика из районного ЖЕКа. Можно, конечно, и таким образом следить за глобальной политикой, но для этого нужно будет перенести центр политической тяжести в этого самого водопроводчика. Вот и лагерная жизнь протекает между установленным режимом содержания и болезненным желанием зеков нарушать этот режим при любой возможности. Мне кажется, что строгие административные предписания для того только и существуют, чтобы занимать возбужденное сознание уголовников мыслями о возможности нарушения этих предписаний, чтобы не оставалось времени на размышление о «бессмысленном и беспощадном…», чтобы соблюдались правила игры «Я — запрещаю, ты — нарушаешь». Вот эта возня и есть самое обыкновенное ежедневное арестантское бытие, переходящее из одного дня в неделю, из месяца в год. И, поверь мне, что потрясающие перемены никому не нужны. К плохому, как и к хорошему, нужно приучать постепенно, незаметно, чтобы изменения казались происходящими сами по себе, чтобы не усматривалось в них руководящей линии которую ненавидят до обожания и обожают до ненависти. А это уже фанатизм требующий непременного лидера указующего… Но даже таким безумцам вроде меня, пытающимся отыскать свободу там, где ее не может быть в принципе, никакие революции тоже не нужны. Просто, дурная кровь неподчинения пульсирует аритмично и сердце не может биться в такт с общим ритмом лагерного организма. Именно по причине этого врожденного порока от меня старается поскорее избавиться не только администрация какого-нибудь отдельно взятого лагеря, но и некоторые «положенцы» смотрящие за собственным благополучием. Я понимаю это.
Понимаю и другое, то, что в некоторых случаях, отправляя меня в ту или иную зону, мусора использовали меня в собственных целях. Нетрудно было предугадать как я поведу себя в предлагаемой ситуации и когда нужно было подхлестнуть какого-нибудь чрезмерно либерального начальника колонии, то требовалось просто проштамповать конверт литерой данной зоны и немного подождать… А поскольку большинство начальствующих «гуманистов» происходило из тех, на чьих душах были запечатлены самые массовые и жестокие расправы, то мое болезненное стремление к независимости, довольно скоро пробуждало их от совестливого сна либерализма. Так я стал понимать что вырождаюсь в бессознательного провокатора. Очевидным это стало тогда, когда меня вывезли из Лебедушек Оренбуржской управы, хотя я умудрился не совершить там ни малейшего нарушения, не всколыхнуть ни одной волны, не собрать ни единого сходняка… Все там было в порядке. И проанализировав все происходившее до, все происходившее после и разобрав дословно сам момент моего вывоза, я понял что именно неоправдание скрытых оперативных надежд разлучило меня с той тихой командировочкой.
Я никогда не рассматривал происходящее со мной цепью неких взаимосвязанных событий дополняющих друг друга. Никогда не возникала в моей голове параноидальная картина, на которой суровые дяденьки в погонистых кителях разыгрывали свои партии передвигая фигурки с одного места на другое, изменяя при помощи этих манипуляций развитие событий в определенной точке, в определенное время. И я — маленькая фишечка, двигаюсь в столыпинском вагоне по чьей то комбинационной прихоти. Мысль о молчаливом сговоре маньяков прорвавшихся к власти зародилась во мне позже… Поверь, я не страдаю комплексом повышенной значимости. Отнюдь, мне всегда казалось, что именно я самый-самый обыкновенный человек к тому же достаточно наивный, что могу позволить себе иметь некоторые убеждения, которые по простоте принимаю как собственные. Конечно, я предполагал существование пыльного закулисья, но был уверен в том, что обитают там лишь те, кто непосредственно участвует во всех этих интригах и заговорах, а с ними только свита потешных кивал и озабоченных проходимцев. И вот я осознал что и случайные пассажиры возомнившие себя независимыми от обстоятельств, сами того не ведая, блуждают в бесконечной череде этих обстоятельств и выполняют в них не предписанные явно задачи и от этого неведения справляются с ролью самих себя блестяще! С большими аплодисментами на чужих бенефисах.
Знаешь, писатель, сам человек не способен к изменению собственной личности. Только к расширению полномочий и отягощению пороков, может придти он без посторонней помощи. Для кардинальных перемен необходимо внешнее воздействие. Более того, человек должен оказаться незащищенным пред этой интервенцией, должен ощущать постоянные неудобства и высказывать неудовлетворение происходящим, чтобы таким образом обозначить уязвимые места своей психики. Ведь сам по себе, повторяю, он не меняется. Изменяется его отношение к жизни в силу каких-то событий или потрясении, но сущность, основа характера, натура — неизменна. Намочи бумагу, покрась бумагу — все равно бумага — мокрая, крашенная. Горящая спичка — можно сигарету прикурить, а можно и в бензобак бросить… Я скажу тебе что происходит с человеком после долгих, долгих, долгих мытарств: после долгих, долгих, долгих мытарств человек умирает. Перестает быть тем, кем был до минуты смерти. Получается что смерть и есть — единственный способ изменения личности!