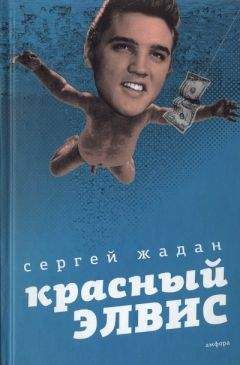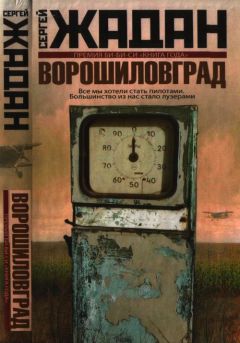Сергей Жадан - Anarchy in the ukr
Все интересное в стране происходит на вокзалах, и чем меньше вокзал, тем больше интересного. Большой ошибкой было бы думать, что власть может на что-то влиять; влиять на что-то может начальник станции, который сидит в своем кабинете и пропускает с Запада на Восток очередной товарняк, тридцать шесть красного цвета Столыпиных, груженных цементом и хлебом, мануфактурой, курва, которую прячут месяцами на запасных путях и в отстойниках, списывают по накладным, получают свой черный нал, и никакая власть этого остановить не может; вокзалы работают даже во время войны, возможно, это последнее, что работает во время войны, вот и Сосюра со своими сестрами милосердия в основном по вокзалам таскался, никакая война этого не остановит, даже гражданская. Воздух вблизи железнодорожной насыпи особенный, он разрежен постоянным перемещением сотен вагонов с тысячами граждан внутри, воздух над железной дорогой открыт, как вена, такого воздуха не хватает для долгого дыхания, поэтому ты движешься от одного ночного вокзала к другому, от одной узловой станции к следующей, ловя ртом этот сладкий разреженный кислород, дозированный для тебя Министерством путей сообщения.
Я всегда интимно относился к железной дороге, собственно, не к железной дороге как средству передвижения, а предметно — к рельсам и насыпям, вагонам и семафорам, к вещам, сделанным с особенной, настоящей надежностью, мне всегда нравились железнодорожные вокзалы, летние вокзалы северного Донбасса, на которых собирался весь местный сброд, алкоголики и бляди, ветераны и дружинники, наши утомленные отцы, которые приходили тихими июльскими вечерами к маленькому вокзалу с толстыми колоннами, послевоенный дизайн, что может быть лучше, пили в буфете теплую водку, слушали республиканское радио, иногда ссорились и подрезали кого-нибудь раскладными ножами, которыми перед этим нарезали овощи и открывали томатные консервы; возле вокзала была конечная остановка одного из трех городских автобусных маршрутов, изредка сюда подкатывал желтый запыхавшийся автобус, из которого выпрыгивали пассажиры; мои старшие друзья любили устраивать шмон на конечной, перекрывали двери и выбивали последние бабки из растерянных безутешных студентов сельскохозяйственного техникума, которые разъезжались под вечер по домам; особенно растерянных и безутешных отводили за здание универмага и там сбивали с ног на теплую и свежую траву, добивая их в траве, так что кровь и июльская зелень густо проступали на белых порванных рубашках жертв; но нас они не трогали, мы были слишком незрелыми для подобных развлечений, и вся жизнь воспринималась нами как большой железнодорожный вокзал, похожий на спелое разломленное яблоко, наполненное соком, солнцем и осами; где-то около семи появлялся фирменный московский, который ехал на Юг, в Крым, дети выбегали на первую платформу, на вокзале их было всего две — первая и вторая, они выбегали на первую и смотрели за мост, где над высокой травой стояло марево и горели семафоры, и в этом мареве между этими семафорами время от времени оранжево вспыхивала куртка обходчика, который, словно дьявол, переводил стрелки, переключал семафоры, благословлял все это движение на Юг, в Крым, курва, к морю, которого никто из нас никогда не видел. Поезд сбивал собой жару, всю пыль и всю траву, что остро пахла между шпалами, останавливался на какие-то пять минут, из вагонов высыпала мажорная столичная публика и покупала несвежую прессу в киоске и теплую водку в буфете; девочки в купальниках и больших солнцезащитных очках удивленно смотрели на наши детские лица, на обветренные горячие лица наших отцов, на гордые красные лозунги нашего вокзала, написанные на не совсем понятном для них языке, смотрели, и наша пыль оседала на их волосах, и наша трава забивалась им между пальцев ног; проходили по перрону и оставались в нашей памяти и нашем сознании, и без того наполненных красивыми и героическими персонажами из жизни, сновидений и кинофильмов.
Острее и печальнее всего было само осознание этой преходящести, физическое проживание этих нескольких минут, в течение которых юные женщины со светлыми волосами и темными глазами боязливо спускались к тебе, на твою территорию, на территорию, которая принадлежала тебе по праву, за которую ты отвечал и которую честно считал своей, и когда они — пусть всего лишь на несколько минут — попадали на эту территорию, ты кожей ощущал, как смещается пространство и разламывается время, как в нем появляются тонкие-тонкие, еле ощутимые и почти никому не заметные трещинки, в которые сразу же забивается вся трава наших перронов, весь покалеченный подорожник, забивается и уже остается там навсегда, как метка, по которой ты сможешь потом восстановить в своей памяти и этот день, и это лето, и этот густой красный лак на ногтях пальцев ног, который ты успел заметить.
Они ничего не видели в наших глазах, они совсем ничего не замечали в зрачках недозрелой провинциальной шпаны, которая жадно ловила каждый их жест, каждый их вдох, просто покупали свой пломбир и свои журналы и исчезали в темноте, что тянулась от нашего города на Юг, к морю, а уже там и совсем забывали о небольшом вокзале, одной из бесконечных остановок в их долгой-долгой жизни, исполненной нежности, любви и еще чего-то такого, о чем мы в том возрасте просто не знали; хотя, если б они посмотрели внимательнее, они бы обязательно увидели много интересного, именно в наших глазах, удивленных и широко раскрытых, потому что в таком возрасте то, что ты видишь, не проходит бесследно, и, посмотрев в наши глаза, только посмотрев внимательно, они могли бы увидеть все те бесконечные товарняки с нефтью, которые ежедневно прокатывались через наш город, и птиц, которые летали между нами на гулких запыленных чердаках, и боязливые движения наших одноклассниц, и загорелые торсы наших старших братьев, и приглушенную страсть наших отцов, которая надолго оставалась в наших зрачках, меняя их цвет.
Поезд трогался с места, кто-то и дальше квасил в буфете, на перрон оседали теплые сумерки, становилось темно и уютно, и так пусто было в воздухе, очевидно, из-за отсутствия в нем этих прогретых насквозь вагонов, что ты просто поворачивался и шел домой, или шел на футбольное поле и гонял по нему, пока мяч совершенно не терялся в темноте, и ты лупил с носка по сгусткам этой тьмы, пытаясь все же вырвать свою победу, но кого ты на самом деле мог победить в таких сумерках, в той темноте, когда не было видно не то что мяча, но даже соперника, у тебя просто не было соперников в том возрасте, в том городе, под теми черными небесами над той темной вытоптанной площадкой; все твои противники обнаружатся позднее, уже когда совсем исчезнут и старшие друзья, и большинство знакомых, исчезнет солнце с вокзалов, исчезнут лозунги с послевоенных фасадов, разбегутся футбольные команды, в которых ты играл, а новые собрать будет уже невозможно, потому что настоящие команды, команды, способные побеждать, попадаются в жизни очень редко, если попадаются вообще.
Но даже пустота, что вдруг открывалась перед нами, будто почтовый ящик без писем и свежих журналов, даже она не могла отбить у нас желание ежедневно таскаться по платформам, возможно, это просто детская тяга к взрослым формам жизни, когда в одном месте и в одно время ты можешь увидеть сразу все схемы, по которым эта жизнь движется, — ощутить запах настоящей, взрослой жизни, что пахнет дешевой водительской столовой, пахнет старыми промасленными робами, пахнет, совсем неожиданно для тебя, советскими духами и югославской жевательной резинкой, вообще обладает фантастическим запахом, и даже когда изменятся декорации, изменится власть, изменится страна, в которой ты живешь, все равно останется этот запах, поскольку останется сама жизнь, независимо от того, останешься ли в ней ты. Просто наши вокзалы вмещали в себя все необходимое и достаточное для того, чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно, — и низкие запыленные вишни, и весь алкоголь окрестных буфетов и столовых, и всю контрабанду пристанционных складов, и самых красивых женщин наших городков, которые отъезжали транзитными рейсами в неизвестном направлении, но всегда, ты понимаешь, всегда возвращались назад.
6Реальная биография Кобзона. Никогда не пытайся понять, что именно там происходило — в твоем детстве, почему большинство историй, рассказанных тебе родителями, имели такое неожиданное продолжение и печальное окончание. Начнешь копаться в детских вещах, дневниках и фотоальбомах — обязательно завязнешь, обязательно наткнешься на что-то такое, от чего мороз пойдет по коже и челюсти сведет от судороги и возбуждения. Каждое подобное возвращение в детство плохо заканчивается — вот и мы сидим и пьем до ночи, и пытаемся о чем-то говорить, мол, здорово все выходит, здорово, что мы приехали, хотя на самом деле ничего не здорово и все эти остатки коммун в степях и набитый костями чернозем вгоняют в легкий ступор, так что остается пить дальше и говорить о погоде, засыпая во время разговора.