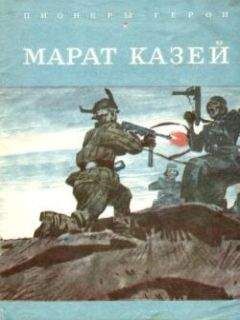Феликс Коэн - Жизнь как женщина (донос)
Прошла еще пара недель, и все покатило, поехало по накатанной колее ее психологических циклов. В гармонию наших с трудом восстановленных взаимоотношений стали врываться уже знакомые диссонансные, резкие, дисгармоничные звуки — иностранный, подруги, родители и т. д. и т. п.
Отказывает по телефону невежливо и безразлично-утомленно, мол, «достаешь» ты меня.
«Непонятно, опять кто-то новый появился или кто-то старый?» Как мне это надоело.
Позвони, скажи: «Извини, дорогой, все кончено, расстаемся». Красиво.
И разбежались. Я наступлю на себя. Тогда я смогу.
Да, что я — бык на привязи?
Гусыня. Домашняя откормленная гусыня с зобом, набитым баклажанами. Перчики, огурчики, помидорчики, травка… Аккуратное жевание… («Сделать тебе кофе?») Мое колено между ее бедер… Чувство ирреальной зависимости. Сумеречное ощущение биологических глубин… Истерия пола, откуда? Может, там, далеко в черных дырах генетической вселенной, в ее гусиное стадо залетал лебедь? Отмеченные дефектом Y-хромосомы?.. И этот же лебедь около моих предков? Невероятно! Между ними залегали такие расстояния… Он что, многоцелевой истребитель с неограниченной дальностью полета? Тогда таких не было, уровень развития техники не позволял. Откуда же эти генетические несуразности? Откуда все-таки этот биологический раритет?
— Но она тебе все-таки что-то дала? — это Ира, моя подружка.
— Да ничего она мне не дала, кроме своих заплеванных половых органов. А всю ее остальную создал я, да и существует она только в моем воображении. Но я думал, что создал ее из своего ребра, а она из глины. Из глины и грязи своего аула. В такую душу не вдохнешь. Да и не надо — она ей будет только мешать. И среди таких же глиняных истуканов, состоящих из желудков и промежностей, ей будет хорошо!
Раздражающая, отвратительная безысходность отбрасывает меня в сумерки, и я вновь вижу свою душу.
Я вижу, что на самом деле это не преграда и не занавес, а холст, натянутый, новый, который ты бы могла заполнить красками, яркими и незабываемыми, и твои касания этого холста позволили бы тебе увидеть и ощутить прекрасную, дышащую, цветную композицию, неповторимый, значимый, живой орнамент, который ты могла бы сохранить как надежду на лучшее. Этот холст ты порвала, и жить мне не хочется.
Смутно вижу знакомые дыры на асфальте, разрытую для ремонта трамвайных путей Садовую, пирожковую «Метрополя», «Екатерининский» садик, закрытый на время ремонта зеленый магазин «Елисеева». Где я на самом деле?
Острая боль в спине согнула меня и бросила на асфальт. Двое суток в холодном поту, скрюченный, тратя все силы, чтобы сдержать крик от невыносимо острой боли, я лежал на полу, исколотый многочисленными препаратами, блокадами, снова блокадами и снова инъекциями, вызывая недоумение коллег отсутствием эффекта от столь интенсивных мероприятий. На третьи сутки боль внезапно и полностью прошла.
(Ты меня отвлекаешь от нее, Боже?)
Еще длительное время я плохо ходил… Страх боли при любом движении…
Каждый день, несмотря на боль, бег, подтягивания, триста наклонов на пресс, отжимание от земли, растяжки, теннис. Я восстановился.
«Так это — любовь, Заславский, или нет?» — спросил я.
«Конечно, любовь», — ответил Заславский.
Это все.
«Это все? А дальше? Ведь что-то должно быть дальше? — спросил я его. — Нет конца».
«Дальше?» Он очнулся.
«А что такое „дальше“ — время, пространство, длительность? Я даже не знаю, что такое время. Я не знаю ничего.
Может, время — это гигантский маятник, раскачивающийся под сводами другого Исаакиевского собора, имя которому — бесконечность…
И каждое качание — это человеческая жизнь, или эпоха, или галактика?
А может, это стремительно убегающая в неизвестность прямая; и где-то там, в конце, кто-то скажет: „Время истекло“.
А может, время — это диалектическая спираль с неизбежными повторениями? Или замкнутый круг? И ты снова будешь в этом месте с этой женщиной?
Не дай Бог!»
Так что же в конце концов было «дальше»? — Ты мне расскажешь?
Дальше — была надежда, которой теперь не осталось.
Дальше я пытался ее забыть. Не очень удачно. Тело и мозг стонали.
Находиться с ней в одном городе я больше не мог — уехал работать в «ближнее» зарубежье.
Я сижу в ливанском ресторанчике. Уже поздно. Вспомнил. Сегодня день ее рождения.
Напротив меня молодая женщина. Звать ее Милена. Милена метиска — папа русский, мама азербайджанка. У нее огромные зеленые глаза, чуть с горбинкой восточный нос, славянский рот и губы. Большие ровные и белые зубы. Она мила и интеллигентна. Она дружит с главным дирижером госсимфонического оркестра и с солистами. Ее знают в опере и в балете, и в драмтеатре. И еще у нее удивительно нежная кожа, особенно на бедрах, упругих и плотных, и впалый животик. После спектаклей, до того как здесь ложатся спать, мы долго бродим по всяким притончикам и болтаем. Ей нравится со мной.
А еще она, как и та, любит сухой мартини. На этом сходство кончается…
Вскоре я вернулся в свой город. Я не могу без него.
Глаза на Невском. Они мельком замечают меня, чтобы тут же забыть.
Но не все. В глазах посторонних ты задерживаешься на более или менее длительное время. Еще дольше ты остаешься в глазах близких тебе людей. Как надолго — зависит от тебя.
Скорее всего, там, в этих глазах, протекает вторая и настоящая наша жизнь, которая может длиться долго-долго, уже после смерти, а может закончиться мгновенно, как и здесь.
Как длительно и каков ты там, тебе не дано знать. Тебе это никто откровенно не скажет. И поэтому ты делаешь все возможное, чтобы задержаться там, в глазах, как можно дольше. А не потому, что ты хочешь попасть в рай и обрести «царствие небесное», в которые не веришь.
В этой толпе где-то, неспеша, идет «моя» Юля.
За это время она уже перебывала в постелях нескольких случайных знакомых.
Периодически дает «своему» — не в силах отказать.
И каждый раз это заканчивается курсом лечения в вендиспансере или в гинекологическом кабинете.
Мы встретились еще раз. Это была уже не она — дошедший свет погасшей звезды.
Я лежу на диване около холодного, остывшего небесного тела.
Господи! Не может быть! Значит, я был согрет, а затем расплавлен, разорван на куски пламенем давно погасшей звезды, генетической, мгновенной вспышкой свойств тысячелетних предков. И я рвался к этому миражу, наступая на самолюбие и стыд?!
Значит, все давным-давно погибло? Осталась эта унылая деваха?
Подо мной расплывающееся тело — тело женщины в возрасте.
Ноги там, в зените, увенчанные на этот раз голубоватыми носочками.
(«Неделька?» Каждый раз, меняя партнера, меняет цвет носочков? Чтобы запомнить?)
— Мне больно! — визжит.
— Тебе больно? А помнишь твое: «Немного больно — это даже приятно».
«Так получи! Могу порвать влагалище — наслаждайся!»
(Где это чувство? Где оно?)
Она уже несколько раз кончила. Скука-то какая.
Грустно и безнадежно. Такая же, как и все. Дырка. Половая щель. Из нее дует.
Была еще одна «Щель», у Астории. Туда часто забегали писатели, поэты, художники.
После редколлегий, приемочных комиссий, где их заставляли совокупляться с властью безрадостно и постыдно. (Точно так же, как мы с Юлькой сейчас.)
Грустные глаза, безысходность, чувство унижения:
«Водочки и бутербродик…»
Она — у стола — голая грузная тетка. Небрежно откинув назад голову, неряшливо что-то жрет («Я люблю хорошую жрачку… Хочу жрать»).
Совершенно голая, с толстыми тяжелыми ляжками и жопой, в голубых носках на толстых икрах. Мощная.
Предмет вожделения на лесоповале.
Промежность воняла рыбой из-за хронического, плохо вылеченного, после неоднократных попыток, воспаления потерявшего чувствительность влагалища.
(Она мне безразлична.)
Снова потекло бездушное, безликое и холодное бытие. По-прежнему были женщины, и я отогревался на мгновение в теплом, благодарном трепетании тел.
Однажды в Петербурге я встретил одну весьма молодую и прелестную особу. Очень высокая. Характерные, как у Модильяни, черты лица. Чистые. «Ты из-за этого с ней встречаешься?» — спросила меня как-то Люба, скульптор.
«Нет, я с ней встречаюсь потому, что она потрясающая, но пока этого не знает. Но я расскажу».
Каждый день звонит мне и говорит, как ей без меня плохо. Что она без меня не может уснуть потому, что она меня чувствует и хочет, что я ей снюсь и она уже больше не может меня ждать и что она купила новые потрясающие трусики и их без меня не наденет, и что я ей открыл целый мир. Она не представляла, что это так прекрасно, и она не знала, что такие мужчины, как я, вообще, существуют, и она меня любит, и другие милые глупости, которые так важно, так необходимо слышать мужчине.