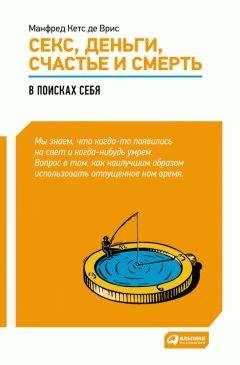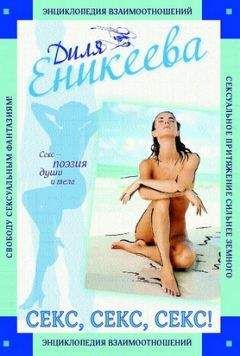Инго Нирман - Именно это
Она бы наверняка ушла от него, прервала всякие контакты, а потом годика через два предъявила бы ему ребенка. Потому что все это время страдали и ребенок, и она. Или, наоборот, у них все было хорошо, и тогда она никогда больше не искала бы с ним встречи.
А ребенок бы вырос, уехал и, вернувшись лет через двадцать, обвинил бы ее в том, что рос в неполной семье. Такие обвинения не имеют срока давности, и ребенок может предъявить их в любом возрасте, даже давно состарившись сам.
Самому Юлиусу это тоже лишь добавило бы проблем, не важно, поймет ли он хоть когда-нибудь истинную сущность ребенка или нет. Пойти и убить его?
Тоже не выход, ни к чему брать на себя лишнюю ответственность. Могут признать невменяемым, но тоже неизвестно, что из этого потом выйдет.
Насчет Лейлы-то Юлиус даже бы не раздумывал: чем обожрался, тем и обожрался, вот и делай выводы, а что уж она там на самом деле себе воображала и чувствовала, это ее проблемы. Да и была ли это Лейла? Сквозь нее перед ним все время просвечивала Ребекка, ее комната. На ней прозрачная блуза, и резинки трусиков отчетливо выделялись под брюками цвета мальвы.
Лейла или Ребекка? Что нашла в нем Ребекка? Ту же Лейлу? Иного вывода он сделать не мог.
Мне надоело думать о том, что с нами было бы, если бы между нами не было того, что было.
Но так ведь чего не было, того и не было. Неопределенность ситуации — кто его знает, что еще будет, а чего не надо — не позволяла надеяться, что дальше не выйдет еще больнее.
Он не косил взгляд, проверяя, как вынужденный лгун, верят ли ему опять или нет. Ему просто казалось немножко лишним, что вот теперь он должен улыбаться кому-то, кто вдруг захотел понравиться ему, когда он сам до сих пор безуспешно пытался понравиться ей все время. Ей, значит, Лейле.
На ее лице не было макияжа, но из-за порозовевших щек и набрякших губ оно казалось намазанным. Радость била через край. Сжатые кулачки дрожали от невыплеснутой силы. Ладони терлись одна о другую так быстро, как будто этот жест мог тут же повлечь за собой результат.
Ребекка медлила. Она не доверяла Лейле. Лейла не пыталась выглядеть преувеличенно-женственной, как женщины, скрывающие какой-нибудь изъян, но и не собиралась раскрывать себя целиком перед другой женщиной. Мужчины никогда не верили, что у нее могут быть лесбийские наклонности. Думали, что она прикидывается, просто чтобы завлечь мужчин. Будь Ребекка лесбиянкой, она бы вела себя точно так же.
Она, наверное, тоже могла бы влюбиться в такую женщину. Испорченную общением с мужчинами, пытающуюся обратить ее в свою веру — безуспешно. Догадываясь, что она не настоящая лесби и никогда ею не станет. Нашла бы с ней удовлетворение и взаимопонимание, а потом, отдохнувшая, вернулась бы к очередному использующему ее мужчине. Она играла с ней, как если бы она была одним из этих идиотов-мужчин, вынужденных только отдавать. Лесбиянка, наказанная за свою измену мужчинам.
Было время, когда благополучные и благородные мужчины, постаревшие импотенты или голубые, охотно женились на лесбиянках. Перестав быть запретным, лесбиянство обрело черты неподражаемой светскости: избавившись от оков содержавших их мужей и отцов, женщины так и не были приняты всерьез со своей сексуальностью, поэтому им позволялось многое. Теперь лесбиянки были пионерками в брюках, таких просторных, что держаться на талии они не могли и перехватывались широкими поясами с массивными пряжками.
Спокойные и расслабленные, всегда начеку, ожидали они новых атак со стороны извечного противника, превосходящего их числом и возможностями. Чтобы узнать своих, им хватало нескольких простых правил. И нескольких простых слов, чтобы понять друг друга.
Разобщенные, они проходили посвящение товариществом. Принимали на себя мужскую роль, трезвость формы которой выделяла их из толпы настолько, что им уже не хотелось ни сбрасывать, ни видоизменять ее, ни опять разобщаться.
Были и пионерки, одиночки или небольшие группы, изменявшие пионерскому делу. В этом камуфляже они привлекали даже тех, кто никогда не хотел стать лесбиянкой. У них не было ни своей ниши, ни своей моды, которая все же, как и у геев, как-то сама собой сложилась, дав им, изгоям, повод считать, что любой, кто хоть отчасти претендует на хороший вкус, является одним из них или по меньшей мере не чужд гомосексуальной культуре.
Лесбиянки стали авангардом женской эмансипации. Это было эффективнее, чем дожидаться, пока мужчины сами уступят женщинам свои полномочия. С введением равноправия они постепенно утратили передовые позиции, а когда однополым парам разрешили усыновлять детей, то и лозунг «не жертвуй карьерой ради материнства» перестал быть актуальным.
Лейла и Ребекка были такой парой, которая вполне могла заиметь ребенка — с помощью спермы Юлиуса.
Ребекка дрочила старательно, пока та не появилась. Сбросила далеко в сторону, соблюдая безопасность. Хотя в последний момент, когда Юлиус не способен был ничего предпринять, могла удержать ее в руке и устроить себе искусственное зачатие.
Юлиус ничего не видел. Это было началом непредсказуемых последствий.
Измучился, выдохся. Юлиус знал, что расплатой за миг удовлетворения для него всегда будет риск. Если удовлетворение затягивалось, риск уходил, но наступало раскаяние.
Ребекка внезапно осознала свою физическую силу. Прижалась к нему, но желание отсутствовало. Им понадобилось много времени, чтобы узнать друг друга — и перестать при этом узнавать самого себя.
Она наклонила голову, чтобы не целоваться. Прикрыла руками грудь, но не отодвинулась. Не реагировала на нежные прикосновения и негромкие слова, призванные напомнить, как ему с ней было хорошо’.
Тревожный сигнал раздался, и кто-то высунул голову — посмотреть, откуда грозит опасность. Но сигнал был ясен и сам по себе: коридор сужался. Голова стукнулась о стенку.
С чем ей было связать это? С тем, что она правильно сделала, вовремя втянув голову, вместо того чтобы высунуться и посмотреть, в чем дело. Что никто не может знать всего. Или просто ее возмутила вся эта история, а не чье-то конкретное поведение. История, которая не кончилась ничем, и Ребекке тоже не дала ничего. Может быть, и так. Все может быть.
Они сошлись вновь без просьб, без борьбы. Обернулось все это, как и любой другой затянувшийся акт, усталостью и разочарованием. Юлиус скучал. Встать и уйти он сейчас был не в силах, даже если бы Ребекка этого захотела.
Так они и скучали бы еще много дней и ночей, что бы ни происходило с ними в жизни. Дрожали бы от скуки, как другие дрожат от страсти.
Потом они целовали друг друга в шею, за ушком. Все предваряющие жесты давно казались им лишними.
С ненасытной сдержанностью спали в той же постели, мыли и ласкали друг друга. Их не тянуло ни к хорошей еде, ни к хорошему сексу. Вернуться к наслаждениям? Увольте. Лучше сберечь то, что было, осторожно храня его.
Казалось, будто они говорят строго по очереди, успевая забыть слова другого прежде, чем начал говорить сам: «Я так хочу… Не отталкивай меня!»
Они знали о той неописуемой покинутости, которая поглотит их, если кто-то из них уйдет. Захлопнет за собой дверь или заболеет. Да даже если они вместе уйдут или вместе заболеют. Хуже всего то, что кто-то останется один. Вот они вместе решают покончить с собой, один выживает, и его потом всю жизнь мучает чувство вины, одиночества и полной безысходности от того, что он не способен больше с кем-то начать все сначала.
Они не могли ничего обещать. Заботливость другого не гарантировала ничего, зато давала волю надеждам, сдерживать которые тоже не было никакой возможности.
— Может, тебе напиться? Напьешься — и будешь любить меня, даже не зная об этом.
Что это было? Ощущение, что только безумство может положить конец их союзу?
Потом другой просыпался еще пьяным. Но его кайф длился недолго.
— Скажи, а у меня во сне тоже такие же свинячьи глазки, как у тебя?
И вздох облегчения в смысле: мое-то свинство никогда не станет таким ужасным. По крайней мере так быстро.
— Мне жаль тебя видеть.
— Разве ты не находишь в этом наслаждение? Если так, то мне тебя тоже жаль.
Насмешки сохраняли их близость. Не спасая от пропасти, а просто не давая подходить к ее краю.
— Моя любовь не ушла, и если ты скажешь, что она, мол, даже и не приходила, то это будет слишком просто. Но и я не могу сказать, что у нас с тобой ничего не изменилось.
— У нас не получилось сделать так, чтобы кто-то один взял и ушел незаметно. В отчаянии, в гневе или от нервов или не имея смелости предупредить о своем решении. Уйдя первым, он заставил бы другого думать, что унизил его намеренно. Во всяком случае, другой воспринял бы это именно так. И чувствовал бы себя гораздо хуже, чем ожидал, когда раньше представлял себе такую ситуацию.
— Мои слезы трогают только меня.