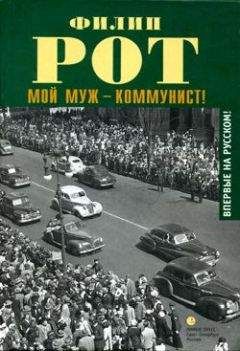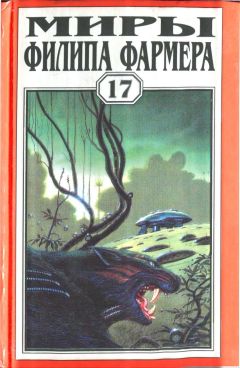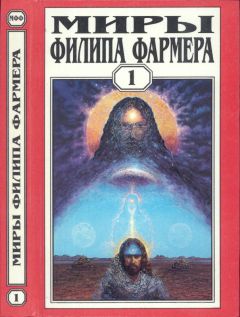Филип Рот - Случай Портного
За носик! Главное, нос! Не черный приплюснутый пятак, как у Коула, не мой длинный шно-бель, а крохотные курносики, которые с самого их чудесного рождения смотрят в зенит. Деток с такими носиками рисуют в книжках, про таких написано на дорожном указателе перед Юньоном, в штате Нью-Джерси: «Осторожно, играют дети! Учти, водитель, мы любим наших детей!» Это девочки и мальчики, которые «вокруг нас», которые убеждают своих прижимистых родителей сменить уже наконец старую развалину, пока не кончилась рекламная пауза, но соседи у них не Сильверштейны и Ландау, и если там попадается какой-то Джек, то это сокращенное от Джона, а нет от Якова, как зовут моего папашу! Знаете, у нас радио работает постоянно, и когда мы едим первое, и когда подают десерт, и последнее, что я вижу перед сном, это желтый индикатор приемника, так что мы знаем все их голоса, но только не надо воображать, что мы здесь такие же американцы, как они, что мы не хуже. Нет! На этой земле хозяева они – блондины, христиане, они тут музыку заказывают, и никто им не указ. О, Америка! Для наших предков Америка – это где деньги валяются на земле, для родителей – это когда цыпленок в каждой миске, но для меня Америка – это Энн Рузерфорд и Элис Фей, которых я помню по кино с детства, это блондинка в объятиях, которая шепчет о любви.
Итак, в парке смеркается. Следуя как привязанный за какими-нибудь красными наушниками, за желтыми локонами, катаясь по кругу, я наконец ощущаю, что значит хотеть. Для озабоченного еврейского маменькина сыночка это непосильная вещь, ему больно. Может быть, прозвучит слишком пышно, но получается, что тогда я узнал страсть и муку. Накатавшись, эти дивные создания поднимаюся на набережную и, чиркая коньками, идут по аллее. Закатное солнце все делает розовым, включая вечнозеленые деревья (или это я все вижу в таком свете). Они переходят дорогу и, хихикая, прямо на коньках заваливаются в кондитерскую. Я преследую их, соблюдая все меры предосторожности, и осмеливаюсь зайти в кондитерскую, когда они уже расстегнули курточки, развязали шарфики и получили по чашке шоколада. Боже мой, они не боятся испортить себе аппетит перед обедом! Сказочные девочки! Даже если они пьют из чашки, то у них носики не пачкаются шоколадом. В порыве страсти я тоже беру себе горячий шоколад и теперь уже, как пить дать, ничего не смогу съесть, когда ровно в половине шестого к накрытому столу явится папаша, голодный как волк. Потом я провожаю их обратно на каток, потом снова катаюсь за ними как привязанный, потом моему экстазу приходит конец – они уходят, уходят за свои гойские занавески к своим отцам-грамотеям, к своим сдержанным мамам, к своим старшим братьям, с которыми они живут в счастии и согласии на широкую ногу, а я тащусь с перепачканным в шоколаде носом к себе в Ньюарк, где теплится трусливая жизнь моего семейства за алюминиевыми жалюзи, на которые моя мать много лет копила деньги, экономя на еде.
Эти жалюзи позволили нам совершить головокружительный скачок в социальном уровне. Моя мать считает, что мы катапультировались прямо в высший свет. Теперь она целыми днями только и делает, что чистит их и полирует, а в сумерках свозь чистые алюминиевые планочки смотрит на снег под фонарем и постепенно раскручивает маховик тревоги, доводя себя до безумия. Обычно это дело нескольких минут.
– Где его носит? – стонет она, когда на улице появляются фары и проезжают мимо, то есть: где ты, о, Одиссей? Уже дядя Хаим приехал и Ландау приехал, и Сильверштейн дома – без четверти шесть! – а отца нет! По радио объявили, что от Северного полюса к нам направляется снежная буря, – все, крышка, нужно звонить «Такерману и Фарберу», заказывать погребальные принадлежности, приглашать родственничков отдать последний долг покойному.
И так всякий раз, когда чуть гололедица, моя мать уже представляет, что папаша, опаздывающий на пятнадцать минут, уже больше не приедет, потому что врезался в столб и валяется на дороге весь в крови.
– О, мои бедные сиротки, – говорит она, заходя в кухню с лицом персонажа Эль Греко, – кушайте, дольше ждать смысла нет.
Как же ей не горевать? Каково ей будет с двумя детьми без мужа, без кормильца? Какая нелепость! Он ехал домой и вдруг снегопад, гололед… В связи с этим я тоже начинаю прикидывать, что теперь, наверное, мне придется подрабатывать после школы, по выходным, и, значит, прощай каток, прощай шиксы, а ведь я ни с одной не сумел даже познакомиться! Я при них и рта раскрыть не отважился ни разу, не то чтобы что-то сказать. Все боялся сморозить какую-нибудь глупость. Как я скажу: моя фамилия Портной? О, это древний французский род – искаженное от «пор нуар» – черная дверь. Представляете, когда-то ворота замка моих предков были выкрашены черной краской, и потому их прозвали… Нет, «ой» на конце меня выдаст! Хорошо, тогда я назовусь Элом Портом или Парсонсом. «Как поживаете, мисс Маккой? Меня зовут Эл Парсонс. Позвольте мне покататься с вами». Нет, Алан тоже еврейское имя, еще хуже, чем Александр. Есть, правда, Алан Лэдд, и у нас в команде был Алан Рубин, но если она услышит, что я учусь в Викуехик-хай, то ей все станет ясно! Подумаешь, я могу об этом и не говорить, но меня выдаст этот поганый нос! «Конечно, мне очень приятно, мистер Порнуар, но почему вы прячете лицо?» Потому что у меня беда с лицом! Понимаете, в детстве у меня был маленький носик, он всем нравился, а потом почему-то стал расти, расти… «Эй, приятель, а ты, случайно, не еврей? Ну-ка, Порнуар или как тебя, покажись-ка. Ого, такой нос бог семерым нес, да одному прилепил! И сверху, прямо на нем большими буквами написано: еврей! Знаешь, парень, иди-ка ты отсюда, нечего с таким носом приставать к нашим девчонкам!»
Так и будет. Я кладу на кухонный стол отцовский бланк, прикладываю щеку и обвожу карандашом свой профиль. Кошмар! Что со мной, мама? Когда ты возила меня в колясочке, я был таким хорошеньким! Почему он сначала растет вверх, а потом загибается вниз? Этак через пару лет мне будет ложку в рот не просунуть! Я не хочу этого! Я иду в ванную и начинаю крутить свой нос в разные стороны, поднимать и опускать. Нет, в фас все очень даже неплохо, но в профиль! Может, мне приклеить сюда картонку, и тогда останется просто изящная горбинка, как было в детстве, совсем недавно? Похоже, что он у меня начал расти, когда я стал ходить на каток. Скорей всего, это какие-то происки матери: что, с шиксами захотел покататься? Вот и попробуй теперь! Помнишь, что случилось с Пиноккио? Так вот, с тобой будет еще хуже. На тебя будут пальцем показывать, тебя будут обзывать Гольдбергом и барыгой, тебе скажут: убирайся к себе в лавку. Ты думаешь, отчего они хихикают? Они над тобой смеются! Ты для них только тщедушный еврей с длинным носом, который таскается за ними, а сказать ничего не может!
– Не трогай свой нос за столом, – говорит мама, – мы же кушаем. Что там случилось?
– Он очень большой.
– Кто? Кто большой? – удивляется отец.
– Нос у меня очень большой!
– Ну и хорошо, – говорит мама. – Зато какая характерная внешность.
Но мне не нужна характерная внешность, мне нужна Настоящая Маккой! У нее голубая парка, красные наушники и большие пушистые варежки! У нас на катке она – Мисс Америка! Мне все в ней нравится: и омеловый веночек, и сливовый пудинг (при всех недостатках), и их домик, где лестница и перила, и родители – папа с мамой – спокойные, уравновешенные, уверенные в себе люди, и ее брат Билли, который разбирается в двигателях и говорит: «Премного благодарен» – крепкий парень, никого не испугается. А как прелестна она в ангорском свитере и клетчатой юбке, когда на диване, подобрав под себя ножки, прижмется ко мне или когда на прощанье скажет: «Спасибо тебе за прекрасный вечер» и, приподнявшись на цыпочки, поцелует меня, кокетливо подняв каблучок, – гладкая, сияющая, податливая и нежная, как сбивной крем. О, ей никогда дома не говорили «Смотри у меня!» или «Чтоб твои дети так к тебе относились, как ты относишься к своей матери!» Для нее будет абсолютно неважно, что у меня за фамилия и какой нос.
Знаете, мне ведь не нужно ни мира, ни полмира, но, вот беда, доктор, стоит мне только подумать о своей старой приятельнице, стоит мне только произнести имя Манки, как у меня встает. Но ни звонить ей, ни встречаться с ней я больше не могу, это опасно для жизни, потому что она чокнулась, доктор! Вы представляете, эта нимфоманка рехнулась! Что мне делать? Она хочет, чтобы я был для нее кем-то вроде Моисея! Одни девочки мечтают о рыцаре в сияющих латах, который прискачет на белом коне и освободит ее, маленькую принцессу, из заточения в мрачном замке, а другие, вроде Манки, считают, что их спаситель дожен быть плешивым, башковитым, крючконосым евреем с черными волосатыми яйцами, потому что он не пьет, не играет, не таскается за девками; с ним можно наплодить кучу детей, которых он будет заставлять читать Кафку – домашний просветитель. В юности он был страшным радикалом, но теперь от былого радикализма остались только крепкие словечки вроде «говна» и «мать вашу»; пусть даже и при детях, но зато он всегда сидит дома, а не в баре с ребятами, не валяется у девок, не трепется до рассвета в теннисном клубе (уж этого-то она не миновала в своем блядском прошлом), не квасит ночами с соратниками по Американ лиджен[27]. То есть простой еврейский парень, который побил все рекорды продолжительности совместного проживания с родителями, и теперь только и думает, как бы ему поскорей стать главой собственной семьи – истовым, ответственным, любящим – короче, идеалом современника. Видите ли, мы с Манки выросли в совершенно разных условиях. Я, по ее выражению, катался у себя в Нью-Джерси, как еврейский сыр в еврейском масле, а она у себя в Западной Виргинии буквально околевала в нечеловеческих условиях. Ее папаша, который ни по уму, ни по упрямству ничем не отличался от мула, относился к ней, как к мебели, как к кухонной утвари, а мамаша – темная, забитая, неграмотная, при всех своих добрых намерениях никак не могла побаловать дочку вниманием только потому, что у нее на это не хватало ума. Все истории Манки потрясали мое воображение – законченного неврастеника – чудовищной жестокостью и невежеством. Например, однажды, когда ей было одиннадцать лет, ее выпороли за то, что она без разрешения пошла на занятия балетной студии, которой заведовал местный «маэстро» мистер Морис. Папаша явился на занятия, выволок ее на улицу и всю дорогу до дома хлестал ремнем, а потом запер в чулан со связанными ногами.