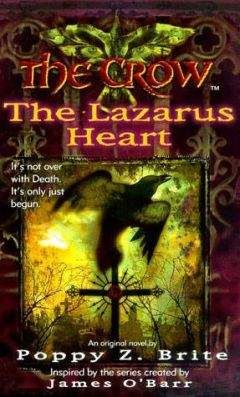Владимир Сорокин - Норма. Тридцатая любовь Марины. Голубое сало. День опричника. Сахарный Кремль
Сопля . Все беды.
Ванюша . Святая правда. Пахнем мы не так, как все. Вот чистые люди и брезгуют. А вот собачки – наоборот, ласковы с нами. А на чистых людей лают.
Сопля . Дались тебе собачки! Меня псы никогда не любили. Ни когда я чистым ходил, ни теперь. (Копошится в объедках.) А это что?
Софрон . Игрушка с подарочком. Мальчонка один сунул.
Сопля . А подарочек есть можно?
Софрон . Не знаю. Дай-кось. (Берет игрушечного колобка, открывает; внутри – такой же колобок, но поменьше.)
Колобок . Ни ха! Ни хао ма, шагуа? [20] лобок.) Вот Цао бы с тобой поговорил… Нет, сие не съедобно. (Кидает игрушку в огонь.)
Софрон . Ни ши шагуа. [21] (Закрывает колобок.) Вот Цао с тобой поговорил… Нет, сие не съедобно. (Кидает игрушку в огнь.)
Фролович . Ребята, хлеб отдельно кладите, как всегда.
Сопля . Хлеба много подали.
Софрон . Мда… А денег таперича совсем не подают.
Фролович . Много нищих в Москву поприехало. Вот и не подают.
Ванюша . Фролушка, а почему много нищих стало?
Фролович . Дураки потому что. Все прут в Москву, думают, здесь деньги под ногами валяются.
Софрон . Вань, я ж тебе уже говорил: нищих много, потому как по деревням жечь стали больше. Раньше токмо земских одних жгли, да токмо в Москве. А таперича стали жечь с деревнями вместе, чтобы земский за своих тягловых ответ держал. Понял?
Ванюша . Понял, Софронюшка.
Фролович . А погорельцы – все в Москву и прут! Конечно, подавать перестанут, а как же! На Тверской вон нищих – не протолкнешься! Напасешься разве ж на всех денег?
Ванюша . В Москву погорельцы едут, потому что в Москве людей много. И думают погорельцы так, что у каждого человека милостыню попросить можно. Вот как они думают.
Софрон . Да попросить-то можно. А вот – подаст ли сей человек?
Фролович . У москвичей сердца ледяные. Их слезами не растопишь. А песни наши им даром не нужны.
Софрон . Правда. Песни таперича и не слушают. Год назад слушали, а нынче и не слушают. Верно Цао покойный говорил – уходить надобно из Москвы в Подмоскву. Тут народ посердобольней. Так оно и вышло. В деревне денег не подадут, а хлеба навалят. Ходим по Подмоскве, и слава Богу.
Ванюша . Цао умный был. Помнишь, Соплюша, как он тебе говорил: «Лучше не воровать, а просить»?
Сопля (суетится вокруг закипающего котелка). Да помню, помню… во, закипел. Просить-то завсегда безопасней. Но выпить тоже хочется. А водки подавать не принято.
Софрон . Господи, сдалась тебе эта водка! Дня не было, чтобы про водку эту поганую не говорил.
Фролович . От водки голова гудит и ноги слабнут.
Ванюша . Мой папаша покойный водку любил. Горькая она.
Софрон . Горькая, невкусная. Как ее пьют… не понятно.
Фролович . Человече все в рот тащит.
Сопля . А я люблю водочки выпить. Особенно зимой. От нее теплота по жилкам разливается.
Софрон . Деньги токмо на нее переводить. Гадость и есть гадость. А толку никакого. Ну что, братцы, обрадуемся?
Фролович, Ванюша, Сопля (готовя ложки, двигаются к котелку). Обрадуемся.
Софрон достает тряпицу, разворачивает; в тряпице лежит упаковка с мягкими ампулами; на упаковке живое изображение: на лысой голове человека вдруг начинают расти цветы, человек улыбается, открывает рот и изо рта вылетают два золотых иероглифа синфу. [22]
Фролович . Сколько?
Софрон (со вздохом). Семь.
Сопля . На два обеда не хватит.
Ванюша . Как – семь? Было же десять?
Софрон . Три вчера фараонам отдали в Перхушково, возле харчевни. Не помнишь?
Ванюша . Вчера?
Софрон . Вчера. Когда вы с Фроловичем пели про Кудеяра-атамана.
Фролович . Так он же не видал. Фараоны подошли, Софроня молча им три штуки и сунул. Чтоб не мешали. Они и отвалили.
Ванюша . Да. Стало быть, не видал я. А вы и не сказали.
Фролович . А чего зря языком ворочать?
Сопля снимает котелок с огня, Софрон кладет на середину клеенки обломок доски, Сопля ставит на него котелок. Фролович достает ложки, раздает.
Софрон . Ну, что, братцы, кинем пять, а две оставим? Или кинем все семь?
Фролович . Две нас завтра все одно не спасут. Обидимся.
Сопля . Обидимся.
Софрон . Обидимся.
Ванюша . Семь – не многовато ли?
Софрон . Круче заберет. В самый раз.
Ванюша . Как знаешь, Софронюшка.
Софрон разрывает ампулы, вытряхивает их содержимое в похлебку; достает пузырек с темно-красной жидкостью, капает в котелок семьдесят капель.
Софрон (Сопле). Давай сахар.
Сопля роется по карманам, достает целлофановый пакет и обнаруживает, что он пуст.
Софрон . Где сахар?
Сопля (шарит по карманам). Господи, я ж пакет не завязал… высыпался…
Фролович . А в кармане?
Сопля выворачивает карман; на конце кармана дырка.
Сопля . Утек сахарок… Простите, братцы.
Фролович бьет Соплю костылем.
Софрон . Гаденыш! Как мы жрать будем?!
Сопля . Простите, братцы, не со зла. Не со зла я. Не со зла.
Фролович . Вот гад! Ну, что тебе доверить можно?! Где мы таперича сахару возьмем?! А ну – хромай на станцию за сахаром! Живо, гнида!
Ванюша . У меня есть сахар.
Софрон . Какой? Откуда?
Ванюша . Так у меня ж башенка сахарная. Помните? Девочка подала во Внукове на рынке. (Лезет в карман, достает башню от сахарного Кремля.) Мы ж ее сохранить решили.
Зрячие молча смотрят на башню.
Ванюша . Софронюшка, кинь ее в суп.
Софрон . А не жалко? Красивая ведь.
Ванюша . Так я все равно не вижу. Чего жалеть?
Софрон молча берет сахарную башню, опускает в похлебку.
Фролович . Ничего, еще подадут… Помешать надобно, чтобы разошлась… сахарок-то крепкий… (Перемешивает похлебку.)
Ванюша . Добрая девочка. Говорила громко. Может, глухая?
Сопля . Глухие недобрые. Злые они все, Вань. И не подают. Меня раз на Пушкинской глухие избили… Фролович, дай-кось я помешаю.
Фролович . Сиди, оглоед.
Софрон (оглядывается). Ишь, стемнело как быстро.
Пауза. Калики сидят молча. Фролович помешивает суп. Костер потрескивает. Где-то неподалеку поскуливает собака.
Фролович (вылавливает ложкой кусочек растворившейся в супе башни). Во! Разошлась. (Кладет ложку.) Помолимся, братцы.
Все кладут ложки на клеенку, встают.
Калики. Пошли нам, Боже, и завтра то же.
Крестятся, садятся, берут ложки, куски хлеба, начинают есть суп. Сначала жадно и быстро выхлебывают жижу, потом вылавливают из котла куриные объедки, обгладывают не торопясь, хрустят костями. Постепенно движения их начинают замедляться. Калики улыбаются, перемигиваются, бормоча что-то, раскачиваются, трогают друг друга за носы, смеются. Потом ложатся на землю вокруг костра и быстро засыпают. Угасающий огонь освещает их лица. Калики улыбаются во сне. Костер гаснет. Через некоторое время к спящим осторожно подходит собака, долго принюхивается, хватает с клеенки куриную кость и убегает.
Кочерга
Капитан госбезопасности Севастьянов приехал на работу в Тайный Приказ к 10.00. Поднявшись в свой кабинет на 4-й этаж, он послал персональный ТК-сигнал о прибытии, вошел в обстановку, съел бутерброд с сычуаньской ветчиной, тульский имбирный пряник, выпил стакан зеленого китайского чая «Тень дракона», просмотрел новости сначала в Русской Сети, потом в Зарубежной, помолился у иконы Георгия Победоносца, взял стандартный стальной сундучок с оборудованием для проведения допроса, прозванный на Лубянке «несмеяной», позвонил во внутреннюю тюрьму, чтобы подследственного № 318 доставили в подвальную камеру № 40, вышел из своего кабинета, запер его и поехал на лифте вниз, в -5-й, подвальный этаж.
Севастьянов был невысоким, широкоплечим сорокалетним мужчиной с лысеющей головой и моложавым, чернобровым и черноусым лицом. Ему шла черная тайноприказная форма с красным кантом, голубыми погонами, тремя орденскими планками, золотым знаком «370-летие РТП [23] », стальным знаком «10 лет безупречной службы» и серебристыми пуговицами с двуглавыми орлами. Сапоги капитана Севастьянова всегда сияли и никогда не скрипели. Он был женат, имел двенадцатилетнего сына и четырехлетнюю дочку.
Спустившись на этаж -5, он подошел к посту внутренней охраны, приложил свою правую ладонь к светящемуся белому квадрату на стальной тумбе. Перед прапорщиком охраны в воздухе повис пропуск Севастьянова с его званием, должностью и послужным списком. Прапорщик нажал кнопку, решетка поехала в сторону. Севастьянов пошел по бетонному коридору, помахивая «несмеяной» и насвистывая русский романс «Снился мне сад». Подойдя к камере № 40, он повернул влево ручку замка, открыл дверь, вошел. В двенадцатиметровой камере сидели двое: младший сержант конвойных войск и подследственный Смирнов. Сержант тут же встал, отдал честь Севастьянову: