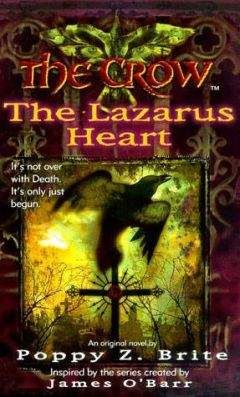Владимир Сорокин - Норма. Тридцатая любовь Марины. Голубое сало. День опричника. Сахарный Кремль
– Хозяин, батюшка Андрей Данилович!
Открываю глаза. Ночник высветил лицо Анастасии заплаканное. В руке у нее пузырек с нашатырем. Сует мне в нос. Отпихиваю, морщусь, чихаю:
– Чтоб тебя…
Глядит на меня:
– Что ж вы такое с собою делаете? Пошто не бережете здоровье свое?
Ворочаюсь, а сил приподняться нет. Вспоминаю: что-то она мне плохое сделала. Не могу вспомнить – что… Жажду:
– Пить!
Подносит ковш с белым квасом. Осушаю. В изнеможении откидываюсь на подушки. Теперь главное – рыгнуть. Рыгаю. Сразу легче становится:
– Который час?
– Половина пятого.
– Утра?
– Утра, Андрей Данилович.
– Стало быть, я еще не ложился?
– Вас в беспамятстве доставили.
– Где Федька?
– Тут я, Андрей Данилович.
Возле постели возникает хмурая рожа Федьки.
– Звонил кто?
– Никто не звонил.
– Что дома творится?
– Нянька творогом отравилась, рвало ее желчью. Танька просится в среду к своим на крестины. В ванной опять игольчатый душ подтекает, я уже послал по Сетке вызов. И надо бы голову собачью утвердить на завтра, Андрей Данилович. А то нонешнюю вороны расклевали. У меня две есть: кавказская овчарка, свежак, и бордоский дог, мороженый, от «Белого холода». Прикажете принести?
– Завтра. Пшел вон.
Федька исчезает. Гасит Анастасия ночник, раздевается в темноте, крестится, бормочет молитву на сон грядущий, ложится ко мне под одеяло. Приникает теплым голым телом, вынимает из мочки уха моего золотой колоколец, кладет на тумбочку:
– Полюбить вас нежно дозволите?
– Завтра, – бормочу, свинцовые веки прикрывая.
– Как скажете, господин мой… – вздыхает она мне в ухо, гладит лоб.
Что-то она мне все-таки сделала… не очень хорошее. Что-то по-тайному… Что? Сказал же кто-то сегодня. А у кого я был? У Бати. У «добромольцев». У Государыни. У кого еще? Забыл.
– Слушай, ты ничего не украла у меня?
– Господи… Что ж вы такое говорите, Андрей Данилович?! Господи! – всхлипывает.
– Насть, а у кого я был сегодня?
– Почем же мне знать-то? Наверно, в какую-нибудь полюбовницу столичную семя обронили, потому и не мила я вам боле. Вон… напраслину возводите на честную девушку…
Всхлипывает.
Еле ворочая рукой свинцовой, обнимаю:
– Ладно, дура, я дела государственные вершил, жизнью рисковал.
– Сто лет прожить вам… – обиженно бормочет она, всхлипывая в темноте.Сто – не сто, а поживу еще. Поживем, поживем. Да и другим дадим пожить. Жизнь горячая, героическая, государственная. Ответственная. Надо служить делу великому. Надобно жить сволочам назло, России на радость… Конь мой белый, погоди… не убегай… куда ты, родимый… куда, белогривый… сахарный конь мой… живы, ох, живы… живы кони, живы люди… все живы покуда… все… вся опричнина… вся опричнина родная. А покуда жива опричнина, жива и Россия. И слава Богу.
Сахарный Кремль
Русь, ты вся поцелуй на морозе!
Синеют ночные дорози.
Велимир Хлебников
Но сколько производя таится в этой тишине,
которая меня так влечет и завораживает!
сколько насилия! сколь обманчив этот покой!
Астольф де Кюстин. Россия в 1839 году
Марфушина радость
Зимний луч солнечный сквозь окно заиндевелое пробился, Марфушеньке в нос попал. Открыла глаза Марфуша, чихнула. На самом интересном лучик солнечный разбудил: про заколдованный синий лес Марфуша опять сон видела да про мохнатых шустряков в том лесу. Подмигивали шустряки мохнатые из-за деревьев синих, высовывали языки огненные изо ртов своих горячих, выписывали языками теми на коре деревьев светящиеся иероглифы, да все самые древние-предревние, сложные-пресложные, неведомые и самим китайцам, такие иероглифы, что тайны великие и страшные открывают. Душа замирает от сна такого, а видеть его почему-то приятно очень.
Откинула Марфуша ногой одеяло, потянулась, увидала на стене живую картинку с Ильей Муромцем, на долгогривом Сивке-Бурке скачущим, и вспомнила – последнее воскресенье сегодня. Последнее воскресенье рождественской недели. Хорошо-то как! Рождество святое все еще не кончилось! В школу токмо завтра идти. Неделю отдыхала Марфушенька. Семь дней будильник мягкий в семь часов не булькал, бабушка за ноги не дергала, папа не ворчал, мама не торопила, ранец с умной машиной спину не тянул.
Встала Марфуша с кровати, зевнула, стукнула в перегородку деревянную:
– Ма-м! Нет ответа.
– Ма-а-ам!
Заворочалась мама за перегородкой:
– Чего тебе?
– Ничего.
– А ничего – так и спи себе, егоза…
Но Марфушеньке спать уж не хочется. Глянула она на окно замерзшее, солнцем озаренное, и вспомнила сразу, какое воскресенье сегодня, запрыгала на месте, в ладоши хлопнула:
– Подарочек!
Напомнило солнышко, напомнили узоры морозные на стекле о главном:
– Подарочек!
Взвизгнула Марфуша от радости. И испугалась тут же:
– А час-то который?!
Выскочила в рубашечке ночной, с косой расплетенной-растрепанной за перегородку, на часы глянула: полдесятого всего-то! Перекрестилась на иконы:
– Слава тебе, Господи!
Подарочек-то токмо в шесть вечера будет. В шесть вечера, в последнее воскресенье Рождества!
– Да что ж тебе не спится-то? – мама недовольно приподнялась на кровати.
Заворочался, засопел носом лежащий с мамою рядом отец, да не проснулся: вчера поздно пришел с площади Миусской, где торговал своими портсигарами деревянными, а ночью опять стучал стамеской, мастерил колыбельку для будущего братца Марфушиного. Зато бабка на печи сразу проснулась, закашляла, захрипела, сплюнула, бормоча:
– Пресвятая Богородица, прости нас и помилуй…
Увидела Марфушу, зашипела:
– Что ж ты, змея, отцу спать не даешь?
Закашлялся и дед в углу своем, за другой перегородкой. Марфуша в уборную скрылась – от бабки подальше. А то еще в волосы вцепится. Бабка злая. А дедуля добрый, разговорчивый. Маманя серьезная, но хорошая. А папаня молчаливый да хмурый всегда. Вот и вся семья Марфушина.
Справила нужду Марфуша, умыла лицо, на себя в зеркало глядя. Нравится Марфуша себе самой: личико белое, без веснушек, волосы русые, ровные, гладкие, глаза серые, в маму, нос маленький, но не курносый, в папу, уши большие, дедушкины, а брови черные, бабушкины. В одиннадцать лет свои Марфуша умеет многое: учится на «хорошо», с умной машиной «на ты», по клаве печатает вслепую, по-китайски уже много слов знает, маме помогает, вышивает крестом и бисером, поет в церкви, молитвы легко учит наизусть, пельмени лепит, полы моет, стирает.
Вытянула из стакана свою щетку зубную в виде дракончика желто-красного, оживила, напоила зубным эликсиром, сунула в рот. Прыснул дракончик на язык мятным-приятным, набросился на зубы, заурчал. А Марфушенька тем временем расческу в волосы запустила. Занялась расческа слоеная работою своей привычной, поползла, жужжа, по русым волосам Марфушиным. Хороши волосы у Марфуши! Гладкие, длинные, шелковистые. Одно удовольствие расческе по таким полозить. Расчесала она их, вернулась к макушке и принялась косу заплетать. Марфушенька щетку-дракончика изо рта в руку выплюнула, промыла, в стакан поставила. Подмигнул ей дракончик-зубочист глазком огненным и застыл до следующего утра.
А уж на кухне бабушка неугомонная зовет-суетится:
– Марфа, ставь самовар!
– Щас, баб! – крикнула Марфуша ответно, расческу китайскую поторопила:
– Куай-и-дярр! [16]
Заурчала расческа громче, замелькали мягкие зубья ее в волосах русых побыстрее. Выбрала Марфуша бантик оранжевый и пару вишенок, дождалась, пока расческа дело свое доделает, и через перегородки – на кухню.
По плечу Марфуше наполнить самовар полутораведерный: налила воды, бересту подожгла, кинула в жерло черное, а сверху – шишек сосновых, за которыми они целым классом в Серебряный Бор ездили. Три мешка шишек набрала Марфуша за неделю. Подмога это большая родителям. И Москве-матушке.
Затрещала береста, Марфуша поверх шишек пук щепы березовой сунула, патрубок вставила, да другой конец – в дырку в стене. Там, за стеною – труба печная, общая, на весь их шестнадцатиэтажный дом. Загудел весело самовар, затрещали шишки.
А бабка уж тут как тут: едва молитву утреннюю прочла, сразу и печь топить принялась. Теперь уже все в Москве печи топят по утрам, готовят обед в печи русской, как Государь повелел. Большая это подмога России и великая экономия газа драгоценного. Любит Марфуша смотреть, как дрова в печи разгораются. Но сегодня – некогда. Сегодня день особый.
В свой уголок Марфуша отправилась, оделась, помолилась быстро, поклонилась живому портрету Государя на стене:
– Здравы будьте, Государь Василий Николаевич!
Улыбается ей Государь, глазами голубыми смотрит приветливо:
– Здравствуй, Марфа Борисовна. Прикосновением руки правой Марфуша умную машину свою оживила: