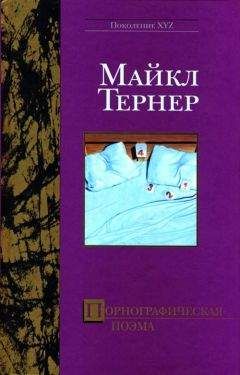Уильям Николсон - Круг иных (The Society of Others)
Вам, наверное, интересно, как я собираюсь жить, не имея средств к существованию? Так я отвечу: паразитировать. Я стану этаким симбиотным паразитом. Хозяином и питающим организмом будет мой отец. Он достаточно зарабатывает, так что внакладе не останется – к тому же я недорог в обращении. Вам интересно, с какой это радости он должен меня содержать? Потому что сам напросился.
Вы пораскиньте мозгами. Если бы они с матушкой не расстарались, меня бы на этом свете не было. А так эти двое устроили междусобойчик и стащили меня с облачка, где я тихо-мирно почивал, никого не трогая. Заключили в беспомощное детское тельце, не способное себя обслужить, поставив в полную зависимость от родительской опеки. Сказали бы сразу, так, мол, и так, вот уговор: мы за тобой ухаживаем до поры до времени, а когда перестанешь быть лапочкой, выживай самостоятельно. Я бы, конечно, не повелся: спасибо, такой расклад не про меня, лучше останусь бесплотным духом в прохладной синеве. Так что это была их идея. Хотели – получайте.
Поймите меня правильно, их дела тут ни при чем, пусть сами разбираются. Мать все восприняла с должным хладнокровием, если не считать того, что с тех пор зовет отца «ушедшим» – это еще относительно умеренное возмездие. Вы не услышите от меня баек про разбитые семьи и разрушенные очаги, потому что ничто не разбито и не разрушено: все остались хорошими друзьями; мать с отцовской подругой подружились, а теперь, когда выяснилось, что Джемма беременна, стали как сестрички, если не считать внушительной разницы в возрасте. Нет, мне папулина пассия импонирует, хотя я так пока и не понял, кем она мне приходится; может, любовницей по отцу? А еще меня напрягает, что она такая привлекательная – засмотришься на ее губы, и приходится себя одергивать.
Отца мучает совесть, не без того, но это уже не моя проблема, и если ему хочется впредь поддерживать меня материально, с какой стати я должен возражать? Он ведь тоже здорово выигрывает от нашей сделки. Небольшой финансовый взнос – и чувство выполненного долга обеспечено. Так что не доставайте меня разговорами на тему поиска работы.
А в то утро, за день до начала описываемой эпопеи, меня посетило предчувствие – ну, может, не так высокопарно. У меня часто бывают всплески интуиции. Скажем, симпатичная девушка идет в мою сторону по эскалатору, и меня тут же огорошивает: вот сейчас она улыбнется, я поднимусь, пойду за ней следом и увижу, что она стоит и ждет меня. Или бывает так: меня срочно просят позвонить домой, и мне чудится, что на наш дом рухнул авиалайнер, и теперь я один-одинешенек на всем белом свете, бездомный скиталец. Эх, ничего такого не сбывается, однако предчувствия все равно меня посещают. Кто знает, может, чудеса и катастрофы ждут своего часа? И обрушатся всем скопом зараз, чередой скорострельных вспышек. Сыпанут, как искры фейерверка.
А тогда было явственное чувство, будто меня кто-то окликает. Я напрягся, но ничего не услышал. Потом ощутил что-то вроде зова, точно я кому-то нужен. Вдумался и понял, что это не кто-то конкретно, а некая абстракция. Вот такое у меня было прозрение: я нужен. Надо сказать, прозрение неожиданное. Особой радости я не испытал и скоро об этом ощущении начисто позабыл. Зато оно оставлять меня в покое не намерено и время от времени возвращается – вроде как помнишь смутно, будто ты что-то хотел сделать, но забыл, что именно. Раздражает.
Мать расстроена, потому что я больше не сажусь со всеми за стол. Дело не в еде, а в том, с каким лицом она на меня смотрит – будто ей больно видеть, как я ем. Или не ем. Я не едок. Вообще мне больше нравится уплетать пищу одному, без суеты и разговоров. Мне много не надо: хлеба, сыра, пачку хлопьев, и я доволен. Сподручнее есть по ночам, когда все спят. Даже свет на кухне включать не обязательно: просто открываю дверцу холодильника, и там за яйцами загорается лампочка, этого вполне хватает.
Однажды, когда я так ел, на меня наткнулась Кэт. Она загуляла с приятелем – мерзко представить, чем они там занимались, – проскользнула на кухню, увидела меня и говорит: «Какой ты печальный!» А я только смерил ее взглядом и ем дальше. Мог бы ответить: «На себя посмотри». Знаем мы ее «приятеля». Он славится тем, что выбирает себе дурнушек, потому что они дают на первом свидании. Скотина. Кэт говорит, ей по барабану, и вообще все мужики одинаковы, включая меня. Это правда. У меня тоже есть, так сказать, «подруга», которая нужна мне только для секса, а все остальное я выполняю для отвода глаз. Девчонка об этом не знает. То есть догадывается, конечно, но напрямую я ничего такого не говорю, а она и не спрашивает – наверное, тоже что-то получает от наших отношений, иначе не стала бы со мной встречаться. Ее зовут Эм. Думаю, она ожидала от меня большего.
Надо сказать, во мне разочаровываются все, кому я небезразличен. Родители разочарованы; дедушка разочарован; разочарована даже крестная Шейла, которая всегда помнит про мой день рождения и хранит у себя мои детские фотографии. Все они мечтали, что у меня будут свои устремления, увлечения и какая-нибудь замечательная цель в жизни. Теперь им хватило бы, если б я просто устроился на работу. Что тут скажешь? Ну не вышло. Одно время мне нравилось кино, и они думали, что это меня на что-нибудь вдохновит, однако интерес иссяк.
Мать говорит: «Я просто хочу, чтобы ты был счастлив. Не может человеку нравиться такая скучная жизнь».
Так и подмывает ответить ей, и отцу с дедом, и Шейле: «А почему я должен быть счастлив ради вас?» Я тащу этот груз на шее – требование непременно быть счастливым. И не для себя, а для них. Зачем? Чтобы их отпустило чувство, будто они мне чего-то не додали?
Но я попросту отвечаю: «Меня все устраивает».
Они действительно мне кое-чего не додали. И от сочувственных взглядов лучше не станет. Только не хочется смотреть им в глаза. Как же я устал быть семейным недоразумением! Найдите себе другой объект для заботы и оставьте меня в покое.
Теперь вы меня презираете. Знаете, как-то не трогает. Задайтесь вопросом: какое вам дело? Нет, просто подумайте. Это ведь не презрение как таковое, вы просто боитесь превратиться в подобие меня – если уже не превратились.
Нет, все могло быть и хуже. Я не агрессивен, не груб, не расточителен. Слежу за собой, чистоплотен, вежлив с подругами матери. Не заваливаюсь домой пьяным, не принимаю сильнодействующей наркоты, не курю. Конечно, время от времени балуюсь травкой, не без этого, но не в таких количествах, о которых стоит говорить. Моя инертность проистекает не отсюда; она берет начало в главном источнике, материнской жиле, незамутненном понимании природы бытия:
Жизнь тяжела, от нее умирают.
Я эту мысль увековечил на своем окне краской из аэрозольного баллончика. Получилось похоже на граффити. Бывает, лежу на кровати, рассматриваю корявые буквы на фоне пасмурного неба и думаю: «Вот именно». Так и есть, ни отнять, ни прибавить. И этого не переменишь. Вот тогда я, пожалуй, испытываю нечто близкое к удовлетворению.
А с той тысячей история особая. Отец отсчитал их наличными, мелкими купюрами по пятьдесят и двадцать фунтов. Тратить мне их не на что, а вот иметь приятно.
– Ты сильно не думай, – напутствовал папаня, сопровождая слова вымученной улыбкой. – Отмочи какую-нибудь глупость, потрать деньги с задором, чтобы запомнилось надолго.
Я взял упаковку липкой ленты и оклеил деньгами все стены. На бордюр похоже. Отец не знает. Он ко мне не заходит, даже когда и бывает у нас. Вроде как из уважения к моему личному пространству. Да только, на мой взгляд, дело в другом. Он просто не хочет лишний раз напоминать себе, как меня подставил. Эм в восторге от расклеенных аккуратными рядами пятидесятифунтовых банкнот. Говорит, я не похож на всех остальных, и это ее притягивает, а еще что я с причудами и когда-нибудь непременно стану знаменитым. А я отвечаю, что не хочу быть знаменитым, хочу просто быть. И она еще больше восторгается. И я предлагаю ей кое-чем заняться, но она сейчас «не в форме» и хочет просто поговорить. Вот и сидит, балакает что-то, а я смотрю в окно, где воркуют голуби, а потом вижу, что она плачет.
– Ну что еще? – спрашиваю.
– До тебя не достучаться, – отвечает.
– Достучаться вообще ни до кого невозможно. Тут она целует меня страстно-престрастно и говорит:
– Теперь достучалась?
Что тут ответишь? Все лгут – из добрых побуждений, из жалости или из трусости.
– Несомненно.
Она смотрит на меня своими синющими глазами, влажными по краям, смотрит и смотрит, нескончаемо долго.
– А если бы я предложила тебе порвать?
– Что именно?
– Наши отношения.
– Ты этого хочешь?
– Ну а если бы хотела?
Опять эти бестолковые разговоры.
– Эм, я такой, какой есть.
– Да уж. – Тяжкий вздох. – Знаю. – Еще более тяжкий вздох. – Давно пора с этим завязывать, да только не могу.
Я молчу, а сам думаю: «Ну если мы сегодня ничем не займемся, то можешь уходить». Жаль, что такое не принято говорить вслух.