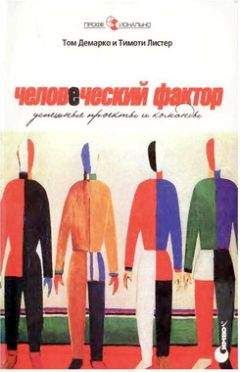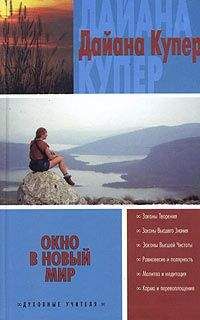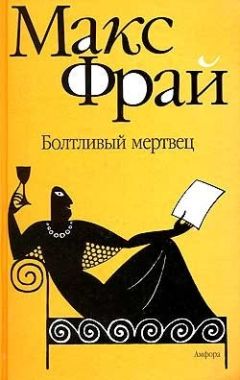Роберт Ирвин - Утонченный мертвец (Exquisite Corpse)
Эта книга – не мемуары художника. Я пишу ее не для того, чтобы рассказать о себе. Мое участие в организации Первой международной выставки сюрреалистов в Лондоне, наша ссора с Андре Бретоном, мой разрыв с сюрреализмом, моя карьера военного художника, мои работы, мой психованный психоаналитик, из-за которого я угодил под суд – все это упоминается здесь лишь постольку поскольку. На самом деле, эта книга не обо мне. Мало того, я пишу не для вас – если только вы не Кэролайн. Вещь, которую вы сейчас держите в руках, это не литература. Это магическая ловушка. Она создавалась с единственной целью: найти Кэролайн. Разумеется, книга должна выйти в свет. Каждый ее экземпляр – как послание, закупоренное в бутылку. Мне представляется множество этих бутылок, плывущих по странным, далеким морям. Собственно, в этом-то и заключается парадокс. Для того чтобы «Изысканный труп» исполнил свое единственное предназначение, необходимо, чтобы он разошелся многотысячными тиражами, хотя эта книга – действительно очень личная, и сделана для одного человека, и адресована только ему. То есть, ей. Если вы все-таки соберетесь ее прочесть, вы очень скоро поймете, что как литератор я полностью несостоятелен. У нас в братстве были свои писатели, Оливер и Маккеллар. Я же, художник, затеявший делать книгу, вторгаюсь сейчас на незнакомую территорию. Мне действительно проще думать, что я пишу очередную картину, только не красками, а словами; и под мазками из слов, вымыслов и неправд лежит темный грунт меланхолии и жалости к себе. Эта книга, мне кажется, выйдет похожей на печальные, сумрачные полотна генуэзского живописца Алессандро Магнаско – унылые и хмурые пейзажи в тусклом свете вечерних сумерек, на которых с трудом различаются расщелины в скалах и безбрежные болота, и посреди этих пустынных ландшафтов, наполовину сокрытые листвой или завалами камней, иной раз проглядывают одинокие фигуры бледных и изнуренных отшельников или печальных шутов, их измученные тела словно высвечены вспышкой молнии.
Закончив этот абзац, самую длинную цепочку слов из написанных мною с тех пор, как я бросил школу, я пошел прогуляться по Южному берегу. Там как раз проходил «Фестиваль Британии», и я решил заглянуть на выставку. В экспозиции были представлены очаровательные и донельзя изысканные механические конструкции Эммета, очень английские нелепости Джона Пайпера, зловеще-футуристический Скайлон и не особенно захватывающая коллекция мебели серии G-Plan. Меня особенно удручали явные признаки доместикации сюрреализма, встречавшиеся повсеместно. Сейчас стало модным писать пейзажи с завышенной линией горизонта, размечающей пустое пространство, где нет ничего, кроме нескольких загадочных объектов, разбросанных как попало, а на рекламных щитах сплошь и рядом красуются изображения вырванных глаз и отделенных от тела рук. Сюрреализм утратил свое изначальное предназначение: провоцировать, эпатировать и удивлять. Былая сила его обаяния теперь стала более чем сомнительной. Фестиваль – это праздник. Ничего себе праздничек!
Даже во время войны настроение у нас было более праздничным. Оно было по-настоящему радостным. Пробираясь сквозь толпы людей на выставке, я весь пылал, словно заряженный пламенем, и мне представлялось, что если сейчас кто-то дотронется до меня, он тут же сгорит и осыплется пеплом, поглощенный огнем моей жгучей души.
Вернувшись домой, я открыл очередную бутылку виски, а потом долго сидел и смотрел на стену. Мне все равно, на какую из стен смотреть, потому что однажды, в краткосрочном припадке вдохновения на trompe d’oeil*, я нарисовал на трех стенах фальшивые окна, и теперь эти стены стали точно такими же, как и четвертая, в которой действительно есть окно, выходящее на запасные пути у вокзала. Дверь в мою комнату почти невидима, потому что раскрашена под обои. Своим искусством я сотворил для себя тюрьму.
Хотя я работаю в этой комнате, как рабочая студия она подойдет далеко не для каждого живописца. Настоящее окно выходит на юг, а все мои братья-художники, или будет вернее назвать их соперниками, ратуют только за северное освещение. Однако меня не заботит проблема света, поскольку я не пишу «из жизни» и предпочитаю работать при желтом свете голой электрической лампочки, который как нельзя лучше подходит для моих ослепительно ярких и пестрых цветов. Я пишу исключительно «из головы». Все происходит само собой. Я закрываю глаза и погружаюсь в поток гипнагогических образов. Фигуры людей, звери, здания, символы и пейзажи как будто гоняются друг за другом в безмолвном пространстве за закрытыми веками, а потом исчезают в неосвещенных зонах сознания. Когда я спросил доктора Уилсона, своего психоаналитика, об этих странных картинках из головы, он заверил меня, что гипнагогические образы – явление достаточно распространенное, даже обычное, связанное с пропуском каких-то там импульсов на фоторецепторах сетчатки глаза. То ли на палочках, то ли на колбочках, я уже точно не помню.
Я посмотрел в словаре, что означает слово «гипнагогический». Вызванный, порожденный сном. Но здесь явно какая-то неувязка, поскольку я определенно не сплю, когда наблюдаю за этими образами, что заполняют все поле зрения, кружатся в вихре бредового танца и перетекают друг в друга, создавая поистине фантастические сочетания. Собака, лежащая на траве, превращается в вазу для фруктов, хвост, согнутый колечком, вдруг проступает изгибом жемчужины, а красавец Нарцисс, завороженный своим отражением в зеркальной воде, стоит только немного сместить угол зрения, вдруг обращается в белую руку скелета, держащую яйцо – в соответствии с параноидально-критическим методом видения мира и построения художественной реальности, разработанным моим старым другом (я имею в виду, бывшим другом) Сальвадором Дали. Сам Дали определил его как «спонтанный метод непосредственного изложения иррационального знания, рожденного в бредовых ассоциациях, а затем критически осмысленного. Осмысление выполняет роль проявителя, как в фотографии, нисколько не умаляя параноидальной мощи». Это полностью согласуется с Манифестом сюрреализма, поскольку мы следуем рекомендации Бретона, пытаясь творить под «диктовку мысли вне всякого контроля со стороны разума, без каких бы то ни было эстетических или нравственных ограничений».
* Оптическая иллюзия; изображение, создающее иллюзию реальности (фр.)
Как бы там ни было, я не верю, что гипнагогические образы связаны со сновидениями, поскольку с тех пор, как исчезла Кэролайн, меня мучает бессонница. Иногда я лежу на полу с закрытыми глазами и бездеятельно наблюдаю за текучими образами, колышущимися в пространстве: пламенеющие зигтураты обращаются огненным ветром костров, языки пламени извиваются побегами виноградной лозы, виноградник простирается до стены, в стене есть дверь, но когда я подхожу к этой двери, она превращается в озеро, по которому плавает утка, только это уже не утка, а перевернутая стопа, и так – без конца, с неослабной энергией. Бредовый, бессмысленный фильм без сценария и сюжета.
В другие разы я не столь безучастен и не довольствуюсь ролью пассивного наблюдателя, поскольку эти текучие образы можно менять произвольно, и у меня разработан комплекс упражнений на концентрацию и построение заданных видений. Я вызываю буквы алфавита. Одна за другой, они неуверенно поблескивают на экране закрытых век, страстно желая стать чем-то иным. Потом я слегка ослабляю контроль, и их очертания растекаются, и они, преисполненные благодарности, превращаются в страусов, окна и банджо – в любую вещь по их выбору. Или я вызываю в сознании образ Гитлера и заставляю его расхаживать с важным видом, потом – бегать, потом – стоять на голове, причем я могу сделать так, чтобы его голова раздулась наподобие воздушного шара, и стала в три раза больше нормальных размеров. Однако подобные визуальные построения требуют немалого напряжения. И самое сложное – это добиться портретного сходства при создании образа определенного человека.
Как правило, гипнагогические фигуры крайне неустойчивы и быстро выходят из-под контроля. Когда я вызываю образы обнаженных или полуодетых женщин, эти женщины отчаянно корчатся и извиваются, сливаясь друг с другом и деталями окружающего пейзажа. Они так застенчивы и стыдливы, им так не хочется подчиняться моему богоподобному произволу. Оберегая свое целомудрие, они превращаются в миртовые деревья, или в коров, или во что-то еще. Иногда мне удается зафиксировать какой-то из этих образов, и захваченная мною женщина застывает на середине волшебного преображения: у нее на руках распускаются листья, ее нос превращается в птичий клюв, ее стройные ноги растекаются струями дыма. Эти причудливые фигуры напоминают «изысканных трупов», небывалых созданий, составленных из разнородных частей, которых мы производили в неимоверных количествах в наших сюрреалистических играх во «Что получилось?». Один художник рисовал голову, потом загибал листок и передавал его другому участнику, который рисовал торс, не видя головы, вновь загибал листок и передавал его дальше. А потом мы разворачивали рисунок и рассматривали получившегося удивительного гибрида.