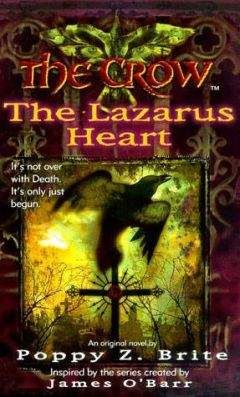Владимир Сорокин - Норма. Тридцатая любовь Марины. Голубое сало. День опричника. Сахарный Кремль
– Государь ваш – белая береза. А на березе той сук сухой. А на суку коршун сидит, белку живую в спину клюет, белка зубами скрипит, если послушать ухом чистым – в скрипе том два слова различимы: «ключ» и «восток». Понимаешь, голубь?
Молчу. Ей говорить всякое позволено. Бьет она меня своей рукой подсохшей по лбу:
– Думай!
Что тут думать? Думай не думай, все равно ни черта не поймешь.
– Что между словами этими помещается?
– Не разумею, Прасковья Мамонтовна. Может… дупло?
– Умом ты прискорбен, голубь. Не дупло, а Россия.
Вон оно что… Россия. Коли – Россия, я очи долу сразу опускаю. В огонь гляжу. А там горят «Идиот» и «Анна Каренина». И сказать надобно – хорошо горят. Вообще, книги хорошо горят. А уж рукописи – как порох. Видал я много костров из книг-рукописей – и у нас на дворе, и в Тайном Приказе. Да и сама Писательская Палата жгла на Манежной, от собственных крамольников очищаясь, нам работу сокращая. Одно могу сказать – возле книжных костров всегда как-то тепло очень. Теплый огонь этот. А еще теплее было восемнадцать лет тому назад. Тогда на Красной площади жег народ наш свои загранпаспорта. Вот был кострище! На меня, подростка, тогда это сильное впечатление произвело. В январе, в крутой мороз несли люди по призыву Государя свои загранпаспорта на главную площадь страны да и швыряли в огонь. Несли и несли. Из других городов приезжали, чтобы в Москве-столице сжечь наследие Белой Смуты. Чтобы присягнуть Государю. Горел тот костер почти два месяца…
Поглядываю на ясновидящую. Уставились ее глаза зеленые в огонь, про все забывши. Сидит, как мумия египетская. Но дело-то не ждет. Кашлянул.
Зашевелилась:
– Когда ты молоко пил последний раз?
Стал припоминать:
– Позавчера за завтраком. Но я, Прасковья Мамонтовна, молоко отдельно никогда не пью. Я его с кофием употребляю.
– Не пей молока коровьего. Ешь только масло коровье. Знаешь – почему?
Ничего я не знаю, ядрена вошь…
– Молоко коровье поет в изголовье: на сердце сяду, накоплю яду, разведу водой, накрою собой, помолюсь теленку, моему ребенку, от теленка кости придут в гости, косточки белые, на шелопутство смелые, прогремят, помрут, силу заберут.
Киваю:
– Не буду, не буду молока пить.
Берет она мою руку костлявой, но мягкой рукою своей:
– А масло ешь. Потому как коровье масло в силе не угасло, пахтаньем копится, вокруг оборотится, сожмется в комок, ляжет на полок, жиром взойдет, в печень войдет, под кожей отложится, силою умножится.
Киваю. Масло коровье я люблю. Особливо когда его на горячий калач намажешь, а потом на него сверху – икорки белужьей…
– Ну давай, твое дело.
Лезу за пазуху, вынимаю кисет синего шелка с инициалами Государыни. Достаю из кисета нательную мужскую рубашку тончайшей выделки и в бумажки завернутые две пряди волос: черные и русые. Берет Прасковья сперва волосы. Кладет на левую ладонь, перебирает пальцем, смотрит, шевелит губами, спрашивает:
– Как звать?
– Михаил.
Шепчет что-то она над волосами, смешивает их, зажимает в кулак. Потом приказывает:
– Чашу!
Шуршат слуги еле различимые. Приносят глиняную чашу с маслом кедровым, ставят на колени ясновидящей. Бросает она в масло волосы, берет чашу в костистые руки свои, подносит к лицу. Начинает:
– Пристань-прилепись-присохни на веки вечные сердце добра молодца Михаила к сердцу красны девицы Татьяны. Пристань-прилепись-присохни. Пристань-прилепись-присохни. Пристань-прилепись-присохни. Пристань-прилепись-присохни. Пристань-прилепись-присохни.
Берет Прасковья рубашку молодого сотника Кремлевского полка Михаила Ефимовича Скобло, кладет ее в масло. А чашу слугам отдает. Вот и дело все.
Переводит свои очи ясновидящая на меня:
– Скажи Государыне, что сегодня под утро пристанет к ее сердцу сердце Михаила.
– Спасибо, Прасковья Мамонтовна. Деньги будут, как всегда.
– Скажи, чтобы денег мне больше не посылала. Что мне их – в бочке солить? Пускай пришлет мне семян папоротника, сельди балтийской и книг. А то я свои уже все пожгла.
– А каких именно книг? – спрашиваю.
– Русских, русских…
Киваю, встаю. И начинаю волноваться: теперь и про свое спросить не грех. Но от Прасковьи ничего утаить нельзя.
– Что задергался? О своем решил заикнуться?
– Решил, Прасковья Мамонтовна.
– С тобой все ясно, сокол, и рта не раскрывай: девка от тебя на сносях.
Вот те и раз.
– Какая?
– А та, которая живет с тобой в одном доме.
Анастасия! Мать честная… Я же ей дал таблетки. Ах, тихая сапа… лоханка…
– И давно?
– Поболе месяца. Родит мальчика.
Молчу, в себя прихожу. Ну а что… бывает. Решим вопрос.
– Ты про службу хотел спросить?
– Да я…
– Все пока в норме у тебя. Но завистники есть.
– Знаю, Прасковья Мамонтовна.
– А коль знаешь – остерегайся. Машина у тебя сломается через недельку. Хворь подцепишь несильную. Ногу тебе просверлят. Левую. Денег получишь. Немного. Будешь бит по морде. Несильно.
– Кем?
– Начальником твоим.
Отлегло от сердца. Батя для меня – отец родной. Сегодня поколотит – завтра обласкает. А нога… это дело привычное.
– Все с тобой, голубь. Пшел вон.
Все, да не все. Последний вопрос. Не задавал я ей его никогда, а сегодня что-то пробило на него. Настрой серьезный. Собираюсь с духом.
– Ну, чего еще тебе? – смотрит в упор Прасковья.
– Что с Россией будет?
Молчит, смотрит внимательно.
Жду с трепетом.
– Будет ничего.
Кланяюсь, правой рукою пола каменного касаюсь.
И выхожу.
Назад долетел неплохо, хоть и народу в самолете было уже побольше. Пил пиво «Ермак», жевал соленый горох, смотрел фильму про наших доблестных менял из Казначейства. Как они с China Union Pay бились четыре года тому назад. Горячее было времечко. Опять китайцы хотели нас за горло взять, да не вышло у косоглазых. Казначейство наше выдюжило, ответило второй чеканкой. Засверкали тогда новые червонцы русским золотом в глазах раскосых. Дяодалянь! [6] Дружба дружбой, как говорится, а казначейский табачок – врозь.
В Москве вечер.
Еду из Внуково в город, включаю радио вражеское.
Улавливает верный «мерин» мой шведскую радиостанцию «Парадигма» для наших интеллектуалов-подпольщиков. Сильный ресурс, семиканальный. Прохожусь по каналам сим. Сегодня у них юбилейный выпуск: «Русский культурный андеграунд». Все двадцати-, а то и тридцатилетней давности. Чтобы наша престарелая, блядская колонна Пятая слезы проливала.
Первый канал передает книгу какого-то Рыкунина «Где обедал Деррида?» с подробнейшим описанием мест питания западного философа во время его пребывания в постсоветской Москве. Особенное место в книге занимает глава «Объедки великого». На втором канале – двадцатипятилетний юбилей выставки «Осторожно, религия!». Медалью «Пострадавшим от РПЦ» награждают какую-то старушку, участницу легендарной мракобесной выставки. Дрожащим голоском бабуля пускается в воспоминания, лепечет про «бородатых варваров в рясах, рвущих и крушащих наши прекрасные, чистые и честные работы». По третьему каналу идет дискуссия Випперштейна и Онуфриенко о клонировании жанра Большого Гнилого Романа, о поведенческой модели Сахарного Буратино, о медгерменевтическом адюльтере. На четвертом некто Игорь Павлович Тихий всерьез рассуждает об «Отрицании отрицания отрицания отрицания» в романе А. Шестигорского «Девятая жена». На пятом басит Барух Гросс про Америку, ставшую подсознанием Китая, и про Китай, ставший бессознательным России, и про Россию, которая до сих пор все еще является подсознанием самой себя. Шестой канал отдан щенкам человека-собаки, известного «художника» в годы Белой Смуты. Щенки воют что-то о «свободе телесного дискурса». И наконец, седьмой канал этого паскудного радио навсегда отдан поэзии русского минимализьма и конь-септ-уализьма. Свои стихи, состоящие в основном из покашливаний, покрякиваний и междометий, мрачновато-обреченным голосом читает Всеволод Некрос:бух бах бох —
вот вам Бог.
бих бух бах —
вот вам Бах.
пиф паф пах —
вот вам Пах.
И этого достаточно.
М-да… Что тут скажешь. Вот этим навозом, этой блевотиной, этой пустотой звенящей и питаются наши интеллектуалы-подпольщики. Полипы они уродливые на теле нашего здорового русского искусства. Минимализьм, парадигма, дискурс, конь-септ-уализьм… С раннего детства слышу я слова сии. Но что они означают – так до сих пор и не понял.
Да и что означает икона всей этой «интеллектуальной» своры, «Черный квадрат» католика Малевича, тоже понимать отказываюсь. Одно желание вызывает у меня «картина» сия – харкнуть в нее как можно сильнее…
А вот что такое «Боярыня Морозова» – как узнал в пятилетнем возрасте, так и знаю по сей день. Все это «современное» искусство не стоит и одного мазка нашего великого Сурикова. Когда плохо на душе, когда враги одолевают, когда круги злокозненные сужаются – забежишь на минутку в Третьяковку, подойдешь к великому полотну, глянешь: сани с боярыней непокорной едут по снегу русскому, мальчик бежит, юродивый двуперстие воздымает, ямщик скалится… И пахнёт на тебя со стены Русью. Да так, что забудешь про все злободневное, суетное. Русский воздух вдыхают легкие. И больше ничего не надобно. И слава Богу…