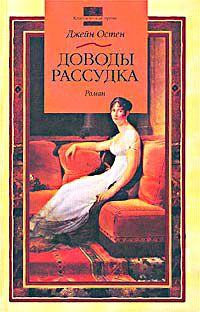Максим Жуков - П-М-К
1989 год
Это тело обтянуто платьем, как тело у жрицы Кибелы обтянуто сетью, оттого-то заколка в твоих волосах мне и напоминает кинжал. Если верить Флоберу, то в русских жестокость и гнев вызываются плетью. Мы являемся третьей империей, что бы он там ни сказал. В этой третьей империи ты мне никто и ничто, и не можешь быть кем-то и чем-то, потому что и сам я в империи этой никто и ничто. Остается слагать эти вирши тебе и, взирая с тоской импотента, обретаться в столице твоей, что по цвету подходит к пальто. Если будет то названо жизнью, то что будет названо смертью, когда я перекинусь, забудусь, отъеду, загнусь, опочу. Это тело имеет предел и кончается там, где кончается все круговертью, на которую, как ни крути, я напрасно уже не ропщу. В этой падшей, как дева, стране, но по-прежнему верящей в целость, где республик свободных пятнадцать сплотила великая Русь, я — как древние римляне, спьяну на овощи целясь, — зацепился за сало, да так за него и держусь. В этой падшей стране среди сленга, арго и отборного мата до сих пор, как ни странно, в ходу чисто русская речь, и, куда ни взгляни, — выходя из себя, возвращаются тут же обратно, и, как жили, живут и по-прежнему мыслят, — сиречь, если будет то названо жизнью, то названо будет как надо, — с расстановкой и чувством, с апломбом, в святой простоте, это тело обтянуто платьем, и ты в нем — Менада. Ты почти что без сил. Ты танцуешь одна в темноте.
Защитникам белого дома
Светлоликим совершенством мне не стать в ряду икон,
Я всегда был отщепенцем, похуистом, говнюком.
Не расскажешь, даже вкратце, как мне съездили под дых,
Там, на фоне демонстраций, в девяностых, непростых.
Был момент — народовластьем, словно кровью по броне…
Но остался непричастен я ковсейэтойхуйне.
Потому что был далёко — среди выспренних писак
Исходил словесным соком, как и все они, — мудак.
В начинаньях пиздодельных жизнь пройдет, как то да сё.
Я пишу в еженедельник: ЗАЕБАЛО ЭТО ВСЕ!
Снова сумрачно и плохо, но на этом на веку,
Мне та похую эпоха, отщепенцу, говнюку.
Дела нет. Все заебало. И не только простыня,
Но жена, как одеяло, убежала от меня;
И подушка, как лягушка, прыг-да-скок на грязный пол.
Всем поэтам — жизнь игрушка! Побухал — и отошел…
Отошел, не в смысле — помер, просто стал пред Богом чист.
Журналисты пишут в номер: КТО СЕЙЧАС НЕ ПОХУИСТ?
Я за свечку, свечка — в печку! Плохо помню этот год…
Я порвал тогда «уздечку». (Кто в разводе, тот поймет!)
Бэтеэры шли рядами после танковых колонн.
Демократы с утюгами, диссиденты с пирогами,
Трансвеститы с бандюками — непонятно — кто на ком…
Но зато, как говорится, мы разрушили тюрьму:
Россиянам за границей иностранцы ни к чему!
Все давно покрыто мраком, мать затихла перемать;
Я женат четвертым браком, — бросил пить, курить, гулять;
Над заплаканным танкистом транспарант торчит бочком:
Я ОСТАЛСЯ ПОХУИСТОМ, ОТЩЕПЕНЦЕМ, ГОВНЮКОМ.
Отец и дочь
Как говорил поэт:
над I должна быть точка, —
Купив роскошный flat,
где поселил семью.
Там мальчик-прибамбас
и девочка-примочка
Делили по ночам
под окнами скамью.
Он руки целовал,
как полагалось, даме,
Но никогда не лез
с последней прямотой,
Был май или июнь,
и поливал хуями
Сосед Иван Кузьмич,
не пущенный домой.
Округлая луна
светила над скамейкой,
Чего тебе еще?
не тронут, не убьют.
Он русским был,
она была полуеврейкой,
Она прочла Завет,
он прочитал Талмуд.
Неровная трава
сквозь глинозем газонов
Торчала там и сям,
напоминая ворс.
И пел через подъезд
водопроводчик Дронов
Про степь да степь кругом,
покуда не замерз.
Печаль всегда светла,
иное приукрасим,
И слезы на цветах,
и в дымке млечный путь,
В садах цвела сирень,
и воздух был прекрасен,
Как говорил поэт:
ни пернуть, ни вздохнуть.
Лилась простая речь
без грубых постулатов,
Интимный говорок
в прозрачной темноте:
Ему по кайфу Джойс,
ей нравится Довлатов,
Он любит Faithnomore,
ей ближе ДДТ.
Ночная тишина.
Ахматовская строчка.
В округе не сыскать
ни принца, ни жлоба.
Он — педик из МГИМО,
она — поэта дочка,
Им жить бы поживать,
да, видно, не судьба.
Двух станов не боец,
но несомненно ратник
(Из тех кого узнать
легко по бороде),
Мне говорил в сердцах
один шестидесятник:
«Все хамы и козлы —
спасение в стыде».
И усложнялась речь,
и дело шло к запою,
Он говорил еще,
собой по горло сыт:
«На свете есть борцы!
Пришел конец застою!
Спасение в стыде,
но он давно забыт!»
Я думал о другом.
О чем — сейчас не помню.
Ах, кажется, о том,
как сборник назову.
В политику спустясь,
как раб в каменоломню,
Он много говорил.
Вот абрис рандеву:
«К чему писать стихи?
Не ведаю.
Не знаю.
Зачем листы марать
распада посреди?
Везде одни скоты,
и предан стыд,
как знамя,
Бесстыден этот мир,
как суку ни стыди».
Усиливался крик
и углублялись вздохи,
Я представлял, как он
стоит,
вплетен в строку,
Продукт своей страны,
продукт своей эпохи,
Завернут в целлофан,
с ценою на боку.
Ой, ты гой если
Ой, ты гой еси, русофилочка, за столом сидишь, как побитая;
В огурец вошла криво вилочка, брага пенная — блядовитая
Сарафан цветной весь изгваздала; подсластив рассол Пепси-колою,
Женихам своим ты отказ дала, к сватам вышедши с жопой голою.
Затянув кушак, закатав рукав, как баран боднув сдуру ярочку,
Три «дорожки» в раз с кулака убрав, с покемонами скушав «марочку», —
То ли молишься, то ли злобствуешь, среди гомона полупьяного, —
Ой, ты гой еси, юдофобствуешь под Бердяева и Розанова.
А сестра твоя (нынче бывшая!) в НАТО грозное слезно просится.
Ты в раскладе сём — вечно-лишняя, миротворица, богоносица.
Вся на улицы злоба выльется, в центре города разукрашенном —
Гости зарятся, стройка ширится, и таджик сидит в кране башенном.
В лентах блоггеры пишут набело о Святой Руси речи куцые;
Ты б пожгла еще, ты б пограбила, — жалко кончилась РЕВОЛЮЦИЯ.
Извини, мин херц, danke schon, камрад, не собраться нам больше с силами,
Где цветы цвели — ковыли торчат, поебень-трава над могилами.
Прикури косяк, накати стакан, изойди тоской приворотною,
Нам с тобою жить поперек дехкан, словно Вечный Жид с черной сотнею;
Отворив сезам, обойдя посты, заметая след по фарватеру:
— Баяртай, кампан! Вот и все понты, — как сказал Чучхе Сухе-Батору.
Так забей на все, не гони волну, не гуляй селом в неприкаянных…
Обними коня, накорми жену, перекрой трубу на окраинах,
Чтобы знали все, чтоб и стар, и млад, перебрались в рай, как по досточке;
Чтобы реял стяг и звенел булат, и каблук давил вражьи косточки.
* * *
Когда в сознании пологом
Светильник разума погас, —
Еврей, единожды став Богом,
Записан в паспорте, как Спас.
И во Владимирском соборе,
До Рождества, среди зимы,
За спины встав в церковном хоре,
Пою и я Ему псалмы.
* * *
Все равно — что Кресты, что Лубянка, что Тауэр,
Все равно, как марается мысль на устах моралиста.
Это, малоизвестный в России,
выходит на венскую сцену Брандауэр,
Никакого уже не играя Мефисто.
Повстречать человека труднее, чем бога, но вымолвить
Имя Бога бывает порою намного сложней,
Когда видишь вокруг то, что видишь, —
твердишь о богах, что они, мол, ведь
Не имеют имен и не сходят в Элизиум наших теней.
Только сцена, огни и подобие Гамлета,
Не того, что в трагедии вывел когда-то Шекспир,
А того, о котором судить не приходится нам,
да и нам ли то
Обсуждать, как Брандауэр образ его воплотил.
Говорят — ничего. Но на фоне тюремного задника
И у нас неплохие играются роли поднесь.
И хоть мы родились и умрем
под копытом у Медного Всадника,
Но и в каждом из нас, может статься, от Гамлета
что-нибудь есть.
* * *