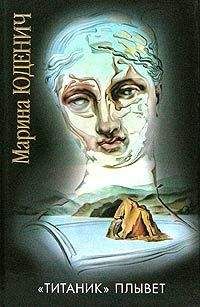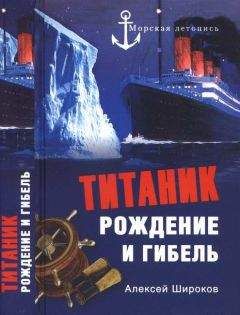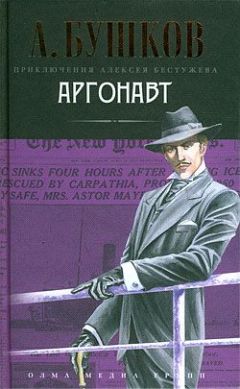Сергей Коровин - Прощание с телом
Но потом, наутро, я все-таки разобрался в истинных причинах своей досады, пока моя птичка отлеживалась в ванне у себя в номере, потому что всю ночь воображала себя ненасытной гиеной, а я тоже не мог долго кончить, что совершенно немудрено после такого количества Стандарта, и тоже валялся у себя, в своей разоренной постельке, вконец умудоханный. Тем не менее все мое существо стремилось туда, в тот номер, разделить с ней удовольствие в пене (кстати, удовольствие — это единственное, что при делении пополам не уменьшается вдвое, а во столько же раз увеличивается), но вход к ней в ванную мне был категорически запрещен. Проклятье!
Я бы с удовольствием чего-нибудь съел, но мне было лень шевелиться, и потом, я лелеял надежду на то, что нам наконец удастся вместе позавтракать — поехали бы куда-нибудь, например, в крепость. В первый день, рассуждал я, мы уже имели бурный обед, вчера — задумчивый ужин, я думал, что и ланч будет не менее знаменательным. И от голода мне в голову лезло разное, например, вспомнилось, как мы, в рамках борьбы с Анькиным аутизмом, посылали ее, маленькую, разбираться с молочницей, бабушкой Салой, и как она, бывало, сияла от счастья, неся от калитки тарелочку с творогом и баночку со сметаной, а иногда нет. Сложненькой она была девочкой, да и сейчас с ней не всегда просто. Я вдруг понял, что моя вчерашняя досада — из-за нее, то есть вызвана тем, что я о ней думал, вернее, о ее словах, и чувствовал себя так, как будто она где-то поблизости, а кому приятно, когда на него смотрят с осуждением? — лопатками чувствовал, макушкой. Между прочим, с Анечки станется, она запросто может вооружиться моим монокуляром, она вообще все что угодно может выкинуть. Даже явиться сюда прямо сейчас и помешать мне наслаждаться желанием и ревностью, ведь помимо голода меня еще терзала мысль о Жирном: я представлял себе его тело, хуй и прочее, и как он, засранец, наваливался на мою крохотную птичку-невеличку своим огромным животом. Слава тебе Господи, что его уже нет, а то я даже не знаю, что бы с ним сделал. Она, правда, обмолвилась, что писька у этого недоноска была — два сантиметра, но это — не важно, я бы все равно нашел повод при случае треснуть его по морде. И еще меня жутко злило то, что она ни в какую не признавалась ни как они с ним что делали, ни когда, ни где, сколько бы я ее ни упрашивал этой ночью в эротическом угаре. «Э, — говорила она, — а вот этого я тебе не скажу», или «Отстань, не твое дело», или «Я не помню», и я трясся от негодования и любопытства. А сейчас я вдруг сообразил, что это, наверно, не каприз, что она мне просто не доверяет — темная ведь история вышла с Жирным: его же в ванной нашли — а я спрашивал, трахалась ли она с ним в ванне. О, нет! И потом, это уже обсуждалось: когда все это произошло, она еще была за границей, ее менты по мобильнику отыскали только на следующий день, да и вообще как, каким образом крошечка-козявочка сможет зарезать здоровенного бугаину?
Вот меня, например, подумал я, ощупывая себя тут и там. Тело мое было гладким и прохладным, покровы чистыми и неповрежденными, а где-то в глубине постукивал с привычными перебоями на холостых оборотах пламенный мотор. Как ты его остановишь, моя ненаглядная, куда нанесешь удар? Сюда? А вот и мимо! Ты его отсюда не достанешь, это только дураки думают, что оно слева. Перережешь горло? Давай. Ах, тоже не получается? Конечно, для этого нужно родиться чеченом. В животик? В глазик? А я убегу. Ты меня свяжешь? Нет, нет, нет, мы договорились: как Жирного, а Жирного твоего никто не связывал.
«Эй, — закричал я, — эй, в ванне! Завтракать поедем?» — и прислушался. За стенкой монотонно бежала вода, потом что-то плеснуло, и она ответила мне с легким вздохом: «Нет. — Потом подумала и добавила: — Принеси швепсу и катись на все четыре стороны. Я сегодня никуда не пойду, я буду очухиваться».
Я потихоньку вырулил со стоянки, толком еще не зная куда ехать. Можно было, конечно, расспросить Аньку, что нового в нашем деле и не выяснились ли какие-нибудь подробности — она же с кем-то перезванивается в Питере, но мне русским языком объявили, что мои визиты в тот дом нежелательны. Днем тут совершенно нечего делать, поэтому я ограничился тем, что пошлялся по базару, купил корзиночку клубники, взял в супермаркете бутылку тоника, сливки и поехал обратно. Она долго не открывала, потом высунула носик, предупредила, чтобы я и не думал переступать порог, ахнула при виде ягод, чмокнула меня, сгребла все в охапку и, ножкой прикрыв дверь, щелкнула замком. Ну что ж, понятно. Она мне как-то сказала, что я уничтожаю ее личность, а это для нее крайне мучительно. Я решил, что это комплимент, хотя так и не понял, что она имела в виду.
И здесь, в нашей ямке на дюне, когда она уже взяла меня проворной ручкой и задвинула себе между ляшечек, и сжала, и задвигалась — просто так, как играют невинные влюбленные, Дафнис и Хлоя, — и горячо зашептала мне в ушко какие-то отдельные слова, я наконец сообразил, что это значит: то есть, говоря о личности и сущности, она признавалась мне в том, что очень остро переживает освобождение бессознательного. А, с другой стороны, кто не переживает? Кто не краснеет (внутренне) при мысли о том, куда его накануне занесло в эротическом бреду? Кошмар, глаз не поднять! Но кошмар в том, что тебя снова и снова тащит обратно, в угар, в доводящую до тошноты истому и судороги сердцебиения.
— Ху-уй!.. пиз-ду-у!.. е-бать-ся!.. — наконец выдохнула она в исступлении и замолчала. Мне захотелось ее пожалеть, я осторожно освободился и стал целовать во вспотевший животик.
Отосланный на все четыре стороны, никому ненужный и рассеяный, я потащился к причалу Мне совершенно не хотелось обедать в одиночестве под любопытными взглядами тучных скандинавских коров, — они же, наверняка, слышали наши ночные вопли — вот и нечего им показывать мою помятую наружность. Птичка-то моя, скорее всего, тоже об этом думает. А на причале можно чудесно посидеть в тенечке, возьму у Валентины Семеновны кружечку сакуского и жареную кровянку, посмотрю, как пацаны ловят подлещиков и густерок, — иногда там такие чудеса случаются, один при мне вытащил леща на килограмм, а сам — вот такой, лет восемь, — просто взял удочку на плечо и пошел от берега, так и выволок его на песок. И даже не улыбнулся. Я прикинул свою реакцию на удачу и понял, что это никуда не годится: каждый день, перед завтраком, вместо «Отче наш» или после него, нужно повторять, закрыв глаза: «Все, что мы побеждаем — малость, нас унижает наш успех…» и так далее — кстати, скверный перевод, но не суть, — чтобы не гордился, не чванился, мол, какой я герой, а смирненько выловил кого выловил — и неси домой: «Вот, мама, Господь нам чего послал, сыты будем!» Да, она любила свежую рыбку, и Мариванна любила, чистить только не любили, а так — пожалуйста. Но где моя мамочка, где Мариванна? — Царство им Небесное. Нет их теперь у меня, и никого уже нет — ни отца, ни Папаши, одна Анька-жаба осталась, которая в дом не пускает — совсем чокнулась со своим Колькой, — тут вот, на лавочке, сирота, буду кушать, в речке руки мыть, под кустик ходить! И еще я испугался: вдруг и эта, моя игрушечка, куда-нибудь денется? Не знаю — уйдет, или умрет, или еще что-нибудь? Почему я такой беспечный? Ведь она же — единственное мое тепло, она так и сказала: «Я хочу, чтобы ты в меня влюбился по-настоящему». Да, я ей ничего не сказал — в конце концов, что такое слова? — но разве ее желание не исполнилось? Что же я тут стою?
Короче, я, не дойдя до причала совсем чуть-чуть, повернул обратно: конечно, нужно скорей вернуться и лечь у двери, подумаешь, не пускает — охранять, караулить, оберегать! Да провались эти судаки, мы уедем с ней отсюда куда-нибудь, например, в Тоилу, снимем домик, будем вместе ловить форелей, кушать марципаны, я буду осторожно сжимать ее в зубах, как косточку, я ей все объясню!
Но тут моему затуманенному взору явилась чья-то козлиная рожа в металлических очках. «Ты что, тоже свихнулся, что ты бормочешь? — спросил этот мутный тип, пихая мне пятерню. Я инстинктивно принял ее и тут же узнал Паршивца, а потому не стал украдкой смахивать слезу — он на такие пустяки внимание не обращает. — Как раз про тебя думал, — завопил он. — Помнишь, как мы тут пили на траулере и чуть не уплыли в Данию, или куда там? Какая была мадера, какие свиные ребра! У тебя, говорят, новая книжка вышла, поздравляю! Ты что, правда в пионерлагере? Мне Анька сказала… И как там? Вы что, поругались? Она какая-то неадекватная, ей-богу: прихожу, а у вас на калитке — замок, я звоню, так она и не вышла даже, только крикнула с веранды: „Он в пансионате!“ и все. Что это значит?»
А что это значит, я говорить не хотел, но Борьке-Паршивцу можно было не отвечать — не затем он задает вопросы, мы с ним обнялись, похлопали друг дружку по лопаткам — я про себя отметил, что за годы, которые мы не виделись, он совершенно не поправился, такой же дохляк, и решил, что, поскольку от него так просто не отделаешься, можно все-таки пообедать у тети Вали. Надо же с ним что-то делать, и потом, с его появлением паника моя прекратилась сама собой, мир перестал быть шатким, будто его укрепили хорошим гвоздем. Нет, я не собирался отступать от намеченного, просто включил в него один из пунктов пансионатского распорядка — обед. Время почти соответствовало. Ну и немного пива.