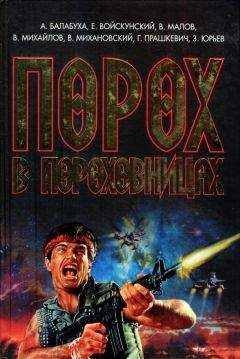Андрей Бычков - Нано и порно
«Сука!» – даже подумал про него Иванов и покраснел.
Но потом вспомнил, что «сука» было все же вполне разрешенное цензурой слово, время от времени даже употребляемое букеровскими лауреатами, а посему подумал еще раз:
«Просто сука какая-то! Я, можно сказать, решил ему помочь. А он…»
И тут вдруг дверь кабинета открылась, и на каталке вкатилось нечто огромное, накрытое белой простыней.
– Ну, наконец-то! – закричал Иван Иванович, жадно хватаясь за ножи.
Но когда откинули простыню, перед ним предстал пожилой обнаженный господин. Синие рыхлые ляжки его мелко дрожали. А в том месте, где они сходились, образуя густую, покрытую седыми волосами впадину, возвышалось нечто синеватое и слегка загибающееся, в основании чего, у самых яичек, болтались полуотклеенные мужские усы. Опытный взгляд уролога, однако, сразу же распознал в этом странном сооружении не что-нибудь этакое, а… да-да, именно катетер! Сей прибор был заботливо поставлен работниками скорой помощи.
– Вероятно, удар оказался столь силен, что кровоизлияние закупорило мочеиспускательный канал, что и привело к задержке мочеиспускания, – озабоченно сказал санитар.
– О-о, было мне та-а-ак хорошо, – прошептал тут пострадавший, а это был ни кто иной, как Альберт Рафаилович.
– Где вы отыскали, м-мм… это? – спросил, поморщившись, Иван Иванович санитара.
– Что?
– Ну, – Иван Иванович брезгливым жестом очертил всю фигуру пострадавшего целиком; к животу его кое-где прилепились огрызки семечек, обертка от жевательной резинки и даже пара окурков. – На вокзале что ли?
– Нет, в университете. Господин валялся… ы-ыы… извините, лежал между партами.
– Голый?
– Да голый, – пожал плечами санитар. – А что?
– Да нет, ничего.
– Я разделся сам, – простонал тут Альберт Рафаилович. – Но не подумайте, я не эксгибиционист. Я просто был весь мокрый. Поначалу из меня все текло и текло, и текло…
– Почему же вы так поздно вызвали скорую?
– Я же сказал, что поначалу мне было хорошо. А потом я впал в забытье, мне стали сниться чудесные сны…
– А это, кстати, что? – Иван Иванович ткнул в болтающиеся в основании катетера усы.
– Это?.. Может быть, мне опять снится….
– Кстати, насчет усов, – почтительно наклонился к Ивану Ивановичу санитар, – мы уже вызвали милицию.
– Это вы правильно, но… господина надо было все же как-то перед осмотром-то обмыть.
– Хорошо, хорошо, – подобострастно закивал санитар, снова накрывая Альберта Рафаиловича простыней и разворачивая каталку.
– Да, эт-та… как его… – брезгливо поводил щекой Иванов, – сфотографируйте, м-мм… это с усами – для органов. Я имею ввиду милицию.
Когда Альберта Рафаиловича увезли, он подошел к ножам и, глядя в свое сверкающее, многократно умноженное отражение, печально подумал:
«Вот, хотел Осинина, а вместо него получил…»
Но если бы он только догадывался, кого или, скорее даже, в лице кого что (о, канцеляризмы!) он заполучил!
Глубокий местный наркоз, в который погрузили перед операцией пенисную часть тела психоаналитика, вновь пробудил в нем фаллический исследовательский дух. И пока Иван Иванович занимался своим делом, Альберт Рафаилович занялся делом своим, исподволь втягивая Ивана Ивановича в коммуникацию. И наконец vopros о proizrastanii v bessoznatel’nom klienta obrazov chujih fallosov snova so vsey neizbejnostiyuy vstal.
– А не потому ли, уважаемый коллега, происходит сие произрастание, что вы сами считаете себя в глубине души своей человеком без фаллоса? – откровенно нанес целительный разрез Навуходоносор.
Иван Иванович пару раз дернулся и вдруг так густо покраснел, что рыжие волосинки его затопорщились и даже как-то защелкали, как в бане от чересчур перегретого пара. И Иван Иванович мучительно замычал.
Несмотря на всю душевную му-у-уку клиента, Альберт Рафаилович, однако, безжалостно подцепил его бессознательное и, как блин на сковородке, перевернул.
– А кто?! – закричал вдруг он. – Кто это сейчас так страшно мычит-то?
Иван Иванович мучительно помотал головой, продолжая издавать нечленораздельные звуки.
– Кто?! – снова властно крикнул ему в лицо Альберт Рафаилович.
И тут уже Иван Иванович сдержаться не смог. Слезы обильно полились из его глаз, и, давясь всхлипами и рыданиями, он горько выговорил:
– Ко-ро-ва…
– Вот видите – ко-ро-ва… А должен бы бык.
И тогда уже, нахлестывая несчастное животное плетьми ассоциаций, Альберт Рафаилович погнал его все глубже в его бессознательное, получая попутно и мясо для анализа, и молоко. Пока они и не натолкнулись на этого таинственного счетовода, что стоял на распутье и годами заставлял бедного Ивана Ивановича считать себя человеком без фаллоса.
Так из «мяса и молока» уролога был, наконец, выделен и счетовод. И даже не один, а, как выяснилось, во множественном числе. Счетоводы эти были ни кто иные, как маленькие дети, что когда-то часто мылись с Иваном Ивановичем (а тогда еще просто Ваней) в местной деревенской бане. Они-то со всей радостью детства и прозвали будущего Ивана Ивановича человеком без фаллоса. Вероятно когда-то (вместе с Ваней) они услышали это странное слово на ферме и подумали, что оно обозначает обычную пиписку. Конечно, никогда им было не стать интеллигентами! Эти маленькие пиздюки со своими дурацкими шуточками, сами того не подозревая, и отстранили будущего Ивана Ивановича от естественного течения русской жизни. Хотя, может быть, это и сам Иван Иванович, обидевшись чересчур на маленьких пиздюков, оторвался от питающих его фаллос целительных соков?
На следующий день, во втором сеансе душеспасительной дойки и резки Иванов подробно рассказал Навуходоносору, как наблюдал с детства эту естественную жизнь (а родился он, как мы уже говорили, в деревне, в семье школьного педагога). О, эта естественная жизнь с ее непонятной любовью к шуткам на сомнительную языческую тему, также как и со страстью ко всевозможным катаниям – на лодках, мотоциклах, качелях и лошадях; с привязанностью к выпиваниям, а после оных и к пляскам, подчас даже и с мордобоем; с идиотским, часами, сидением или стоянием с удочками над рекой; к обязательному, патриотическому какому-то сбору грибов и при этом непременно белых; к купанию в водоемах; к игре до опупения в футбол и, что самое гибельное, так это к изнуряющей погоне за девками («А ведь погоня эта, – воскликнул тут Иван Иванович, – как известно, лишает нас самого дорогого, что у нас есть! Нет, не фаллоса, Альберт Рафаилович, не фаллоса, а, так сказать, прав человека, той самой свободы выбора, которая, как говорил Аббаньяно, и помогает человеку стать самим собой! Потому что из всех возможностей, как говорил Аббаньяно, человек обязан выбирать такие, что являются основой здорового и нравственного образа жизни!»). И так, в красках рассказав аналитику о своих детских наблюдениях за естественной жизнью, он признался Альберту Рафаиловичу и в своем отвращении к этой жизни.
– А знаете почему? – спросил тут как-то загадочно Альберт Рафаилович.
– Почему?
– Потому что Раша – она. А должен бы быть он.
– Юэроп, – восторженно прошептал Иван Иванович.
Глава четырнадцатая
Была уже глубокая ночь, когда, выйдя на улицу из круглой комнаты Тимофеева, Алексей Петрович с наслаждением (и о, совсем без боли!) поссал. Бессильное электричество все еще пыталось высветить перед ним бильборд, но оба они (и электричество, и бильборд) были уже ну просто, как огурцы. А из разверзшейся черноты ночного неба их с откровенной насмешкой солила звездная соль.
Алексей Петрович даже и внимания на них не обратил. Призванный космосом, он решил воссоединиться с ним в глубинах парка, в той темноте, что по-прежнему клубилась и восставала среди скороспелых, разбросанных то тут, то там многоэтажных человеческих домов. В руке своей Алексей Петрович нес столовый нож Тимофеева.
«Бесславно сгнить, подобно сингапурскому банану или позволить надругаться над собой интеллигентишкам от медицины? Они, конечно же, спасут, дабы я запел фальцетом… Как этот Робертино, блядь его, Лоретти. Петь без яичек днем, а вечерами пялиться с дивана в телевизор… И спать в раздельных комнатах. Да хуй вам! Ты права, моя звезда. Ты прав, демоний. А колеса поезда или столовый нож – не столь и важно!»
Темнота парка, заселенного невидимыми убийцами и самоубийцами, глубина тьмы, исполненной смертоносного ритуала… Алексей Петрович обнял дерево и вжал в кору его свой разгоряченный лоб.
«Пронзи меня, о, пронзи меня…»
Но было тихо и ясно – ни ветра, ни туч, ни дождя. Ни молнии, ни падающей звезды. В беззвучной безветренной тьме дрожали лишь листья осины, к которой прижался Алексей Петрович Осинин. Она воздвигала сейчас над ним свою крону, она разделяла с ним сейчас его дрожь.
И смертоносная звезда почему-то все не чертила собой небосклон. Напротив, она словно бы поднималась все выше и выше. Алексей Петрович оторвал лоб от дерева, запрокинул голову и посмотрел в небо.