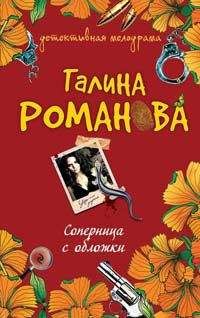Марианна Рейбо - Письмо с этого света
Но я уже внутренне смирился с тем, что не скажу этого никогда. До тех пор, пока Андрей хочет быть в моей жизни, он в ней будет – таков был он и таков оказался я. Он хотел, он требовал от меня лжи, и я буду лгать.
Буду лгать, что бежал не от него, а от постылой питерской жизни. От властной матери. От нежеланного института. От самого себя. Хотя последнее как раз было правдой. Только разве от себя убежишь?..
Я буду лгать, что мы часто будем видеться, что я буду жить от встречи до встречи. Буду лгать, что раскаиваюсь. И что все у нас будет хорошо. Возможно, я и сам поверю в это на какое-то время. Да только хорошо мне с ним бывало лишь в постели. Для жизни это не подходит… Виноват в этом не он, это моя вина. Но кому от этого легче?..
Я так увлекся размышлениями, что чуть не подскочил от неожиданного хлопка входной двери. Вернулся Миша.
– Мы с Лехой поругались, – мрачно процедил он с порога. – Из-за тебя. Я наорал на него, чтобы он не совал нос в чужие дела.
– Не стоило, – ответил я.
– Да ладно, он отходчивый, помиримся, – Миша усмехнулся. – Ушел твой психопат?
– Да.
Я прошелся туда-сюда по коридору, потом остановился напротив Миши и прямо посмотрел ему в лицо.
– Слушай, мне правда очень жаль, что все это произошло в твоем доме. Я понимаю, что теперь мне, наверное, придется выметаться отсюда, но в любом случае я хочу сохранить наши хорошие отношения и…
– Тебе пора в кровать, у тебя измученный вид. И уже поздно, – не дав мне договорить, ласково произнес Миша.
Он приблизился и в задумчивости отвел упавшую прядь волос с моего лица.
– Все нормально. Я бы на его месте сделал то же самое. Вы помирились?..
Я кивнул и неожиданно расквасился. Увидев, что я вот-вот расплачусь, Миша привлек меня к себе и обнял за плечи. Нежно, по матерински, как меня обнимали когда-то в детстве.
– Ничего, малыш, ничего… – тихо произнес он, поглаживая меня по волосам.
Не выдержав этой последней ласки, я уткнулся ему в плечо и разревелся как корова.
22
– Если ты не хочешь, тебе совсем не обязательно ехать, – сказал наконец Михаил после получасового наблюдения за моими остервенелыми сборами.
Незаметно пролетел почти месяц с того дня, как моя штаб-квартира была накрыта питерскими агентами в лице матери и жениха.
На следующий день после событий, описанных выше, за мной, как и обещал, зашел Андрей. Он сообщил, что маман ждет нас в кафе неподалеку. В этом кафе и состоялся семейный совет, на котором – несмотря на все мое сопротивление – было постановлено: до начала занятий в Москве мне делать нечего. Тем более, что молодой барышне жить в квартире холостяка, пусть он трижды гей и берет с нее квартплату, просто неприлично. Сначала было принято решение увезти меня немедленно, но я встал на дыбы, с пеной у рта отвоевывая право прожить в Москве уже оплаченный месяц. Моим главным аргументом было то, что в противном случае Миша захочет вернуть мне деньги за «неизрасходованное» время, и выйдет нехорошо. Кроме того, объяснял я, мне необходимо разобраться еще с рядом важных вопросов, например, с общежитием. В общем, кое-как я отбился, и мой приезд домой был отложен. Все это время я старался не думать о провале своей грандиозной авантюры и сосредоточился на делах насущных. Мне, и правда, пришлось немало побегать по инстанциям, оформляя то одно, то другое. А кроме того, пора было задуматься о заработке хоть каких-то личных денег. Ведь самостоятельная жизнь в Москве, как я уже успел убедиться, обходится заметно дороже жизни в Питере под теплым маминым крылышком. Правда, с подработкой на помощь мне пришел Михаил, пообещав к началу осени подкинуть мне халтуру из газеты. На многое рассчитывать не приходилось, так, по мелочи: где-то редактура, где-то корректура, возможно, грошовые колонки, но и на том, как говорится, спасибо.
Теперь же время отсрочки подошло к концу, и из дома мне начали ненавязчиво звонить примерно по два раза на дню. Андрей и вовсе оборвал все телефоны, выкликая меня к себе, так что мне больше ничего не оставалось, как купить, наконец, плацкартный билет на ночной поезд Москва – Санкт-Петербург.
Я как раз складывал в чемодан последние манатки, когда Михаил, наблюдавший за мной с разложенного дивана, на котором он развалился прямо в тапочках, прервал затянувшееся молчание.
– А какой смысл мне оставаться? – огрызнулся я в ответ на его вопрос. – Мой побег оказался глупостью, с Андреем мы помирились, с матерью тоже. Все стало как было, и приходится признать, что иначе и быть не могло. Они б меня не нашли, я сама в конце концов позвонила бы домой.
– Ты мне можешь ответить на элементарный вопрос: ты Андрея любишь или нет?
– Не знаю я, что значит «люблю – не люблю». Я к нему привязана и очень много значу для него. Бывают моменты, когда нам хорошо вместе. И разумом я понимаю, что все проблемы между нами высосаны из пальца. Тут дело во мне! Будь любой другой на его месте, с моей стороны повторилось бы все то же самое, я ни на секунду в этом не сомневаюсь. Потому что я боюсь жизни, пытаюсь остановить ее естественное развитие, а ведь это, в конечном счете, невозможно! И потом, кто еще будет меня терпеть, с таким-то характером?..
– Да, разумом понимать – это прекрасно. Но что тебе подсказывает сердце?
– А сердце со мной не разговаривает, – сказал я, яростно запихивая в чемодан последнюю тряпку и с трудом затягивая сопротивлявшуюся молнию. – Сердце – это мотор. И никаких чувств в нем быть не может. То, что люди называют «делами сердечными», точно так же, как и все прочее, идет из головы.
Миша засмеялся.
– Да… И, главное, не поспоришь! Интересно, правда, как с такой железной логикой ты ухитряешься писать стихи?
– А я, наверное, не буду больше писать стихи. Ни к чему это. Думаю пойти на отделение художественной критики. А что? Литературу я знаю неплохо, книжки читать люблю.
– Да? Ну и правильно! По правде сказать, твои стихи отвратительны.
Услышав это, я было открыл рот, чтобы извергнуть поток не вполне женственных выражений, но, передумав, лишь улыбнулся и озорно парировал:
– Все понятно, ты хочешь меня разозлить и таким образом пересадить на другого «конька». Мои рассуждения о любви не вписываются в твою совершенную картину мира. Ты же у нас в вечном поиске… И перестань ржать!
Я схватил подушку и шутливо хлопнул ею Мишу по ногам. Он поднял руки вверх в знак того, что сдается.
– Да нет, почему не вписываются. Мне и самому иногда кажется, что любовь – это не чувство, а лишь смесь других разнообразных чувств: влечения, привязанности, нежности, уважения, комфорта… Потому-то любовь так сложно бывает найти и еще сложнее с нею разобраться.
– Да, ты бы лучше со своей любовью разобрался. Вроде все у вас с Алексиком хорошо, а ты по-прежнему держишь его на расстоянии вытянутой руки.
– И тут ты не права. Когда ты уедешь, я передам ему твой дубликат ключей от квартиры.
Мои ключи?.. Я вдруг почувствовал укол ревности, но тут же, опомнившись, мысленно сам над собой посмеялся.
– А по поводу стихов, критики и прочего, – резко сменил тему Миша, – то времени подумать у тебя достаточно. Все равно на первом курсе все занятия проходят в общем потоке.
Эта новость меня обрадовала. Я вообще радовался любой возможности отсрочить какие-либо решения о своей дальнейшей судьбе. Как и моя мать, я на самом деле не считал литературу профессией. Потому-то я и выбрал литературный институт – это был прекрасный повод еще целых пять лет не задумываться о том, кто я: критик, репортер, редактор, «белый воротничок» или продавец в супермаркете. Я хотел как можно дольше сохранять за собой право пойти по любой дороге, при этом не выбирая ни одной из них; хотел оставаться свободным от ярлыков, от социума, от хомута на шее в виде обязательств, ограничений, зависимости от чужой воли и настроений в коллективе…
Коллектив! Главный враг человеческого в человеке. Чтобы быть свободным, человек должен быть один. Попадая в людскую кашу, он волей-неволей начинает себя терять, увязая в авторитетах, чужих мнениях и навязываемых ему правилах жизни. Ведь любое коллективное бытие, от небольшого делового офиса до общества в государственных и мировых масштабах, прежде всего держится на страхе – страхе наказания, страхе потери благ, страхе быть уволенным, непонятым, отверженным… Утопая в коллективном месиве, человек постепенно теряет ощущение себя и уже не понимает, почему придерживается тех или иных взглядов, что заставляет его поступать так или иначе – его собственная воля или воля других. Я же всю жизнь старался сопротивляться социуму, не позволяя ему сформировать мое социальное «я», которое призвано подавить «я» экзистенциальное. Ведь у личного, глубоко интимного «я» не может быть ни профессии, ни имени, ни пола, оно выше любой групповой принадлежности, самоценно и самодостаточно. И как бы мы ни старались убежать от него, примеряя разнообразные роли, рано или поздно оно неумолимо напомнит о себе, заставив нас держать ответ. Ведь кем бы мы ни были при жизни, умирать мы будем, как и рождались, – просто людьми.