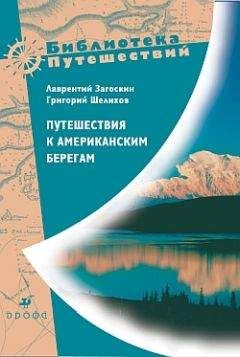Луи Селин - Путешествие на край ночи
Надо отдать Суходрокову должное — он никогда не задавал вопросов ни о коммерческих делах лечебницы, ни о моих отношениях с клиентами, но я все равно, так сказать наперекор ему, держал его в курсе и тогда уж говорил только сам. В случае с Робинзоном поставить его в известность было необходимо.
— Я ведь рассказывал тебе о Робинзоне, верно? — спросил я его в порядке вступления. — Мой фронтовой друг. Вспомнил?
Суходрокову я уже сто раз рассказывал о войне и об Африке, и всякий раз по-новому. Такая у меня привычка.
— Так вот, Робинзон здесь, — продолжал я. — Самолично прикатил из Тулузы повидаться с нами. Пообедаем вместе дома.
Что ни говори, я малость смущался. Приглашая на обед от имени заведения, я позволил себе известную нескромность. В данных обстоятельствах мне надо было бы обладать обволакивающей, вкрадчивой авторитетностью, а ее у меня и в помине не было. И потом сам Робинзон нисколько не облегчал мне задачу. По дороге домой он уже начал проявлять любопытство и беспокойство — прежде всего по адресу Суходрокова. Для начала он принял и его за чокнутого. С тех пор как он узнал, где мы живем в Виньи, ему повсюду мерещились психи. Я успокоил его.
— Ну, а ты по возвращении нашел какую-нибудь работу? — осведомился я.
— Буду искать, — только и ответил он.
— Глаза совсем прошли? Видишь теперь хорошо?
— Да, почти как раньше.
— Значит, доволен? — спросил я.
Нет, он не был доволен. Не время ему сейчас быть довольным. Говорить с ним о Мадлон я пока что поостерегся. Это была слишком щекотливая для нас тема. Мы недурно посидели за аперитивом, и, воспользовавшись этим, я посвятил Робинзона в дела лечебницы и прочие подробности. Никогда я не умел удерживаться от трепа о чем попало. В общем, мало чем отличался от Баритона. Обед прошел сердечно. А после него я уже не мог вот так взять и выставить Леона на улицу. Я тут же решил, что ему временно поставят в столовой раскидную кровать с бортами. Суходроков по-прежнему отмалчивался.
— Давай, Леон, живи здесь, пока не найдешь места, — предложил я.
— Спасибо, — ответил он просто. С этой минуты каждое утро он уезжал трамваем в Париж якобы на поиски места коммивояжера. Завода, уверял он, с него хватит: он хочет «представлять» фирму. Не буду спорить, он, может, и очень старался подыскать место, но что-то его не находил.
Как-то вечером он вернулся из Парижа раньше обычного. Я был еще в саду — наблюдал за большим бассейном. Он пришел и позвал меня на два слова.
— Слушай! — начал он.
— Слушаю, — ответил я.
— Ты не мог бы дать мне работенку здесь у себя? Ничего нигде на нахожу.
— А искал хорошо?
— Да, хорошо.
— Значит, хочешь место здесь, в заведении? А что тебе тут делать? Неужели не можешь найти хоть что-нибудь в Париже? Хочешь, мы с Суходроковым поспрашиваем у знакомых?
Мое предложение ему не понравилось.
— Работы не то чтобы совсем нет, — продолжал он. — Может, и нашлась бы. Ерунда какая-нибудь… Ну, ладно, сейчас ты все поймешь. Мне вот так нужно, чтобы меня считали душевнобольным. Срочно и обязательно нужно.
— Хорошо, — говорю я, — можешь больше ничего не объяснять.
— Да что ты, Фердинан! — настаивает он. — Я должен все объяснить, чтобы ты меня хорошенько понял. Я ведь тебя знаю: пока ты расчухаешь и решишь…
— Давай рассказывай, — покорно уступаю я.
— Если я не сойду за психа, начнется черт-те что, ручаюсь тебе. Всем жарко станет. Она же способна упрятать меня… Теперь понимаешь?
— Выходит, ты про Мадлон?
— Конечно, про нее.
— Мило!
— Еще как!
— Вы что же, окончательно поцапались?
— Как видишь.
— Иди со мной, все подробно расскажешь, — спохватился я и оттащил его в сторону. — Это из-за психов: с ними держи ухо востро. Они тоже кое-что понять могут, а уж нарасскажут потом, даром что чокнутые!..
Мы поднялись в один из изоляторов и не успели войти, как Робинзон выложил мне всю историю, тем более что мне было известно, на что он способен, а намеки аббата Протиста позволяли догадаться об остальном.
Во второй раз Робинзон не дал маху. Вторично упрекнуть в безалаберности его было нельзя. Нет, нельзя, ничего не скажешь.
— Понимаешь, старуха осточертела мне дальше некуда. Особенно когда глаза у меня подналадились. Ну, то есть когда я смог сам выходить на улицу. С этой минуты я на все по-новому посмотрел. На старуху тоже. Ничего не скажешь, я только ее одну и видел. Она вечно как столб торчала передо мной. Все равно что жизнь от меня застила. По-моему, это она нарочно делала. Чтобы мне напакостить. Иначе не объяснишь. И потом, живя все вместе в одном доме — ты ведь его помнишь? — трудно не заводиться друг с другом. Ты же видел, как там тесно. Один на другом верхом сидели — иначе не скажешь.
— А ступеньки в подземелье еле держались, верно?
Когда мы с Мадлон в первый раз спускались по лестнице, я и сам заметил, как она ненадежна: ступеньки под ногой ходуном ходили.
— Верно, за меня почти все было сделано, — откровенно признал Робинзон.
— А люди что? — допытывался я. — Соседи, священники, журналисты? Неужели никто ничего не сказал, когда это стряслось?
— Ясное дело, нет. Они же считали, что мне на такое не замахнуться. Думали, я выдохся. Еще бы! Слепой ведь… Понимаешь?
— Словом, тебе повезло, иначе… А Мадлон? Тоже впуталась в твою затею?
— Не совсем. Но все-таки отчасти тоже, потому как, сам понимаешь, подземелье после смерти старухи целиком переходило к нам обоим. Такой был уговор. Мы бы там вдвоем и устроились.
— С чего же тогда у вас любовь разладилась?
— Знаешь, это трудно объяснить.
— Ты надоел Мадлон?
— Да нет, вовсе я ей не надоел, и замуж она прямо-таки рвалась. Ее мать тоже настаивала, и еще пуще прежнего, и всяко нас торопила: мумии-то мамаши Прокисс должны были достаться нам, и мы спокойненько зажили бы втроем.
— Что же между вами произошло?
— Да мне просто захотелось, чтобы они отцепились от меня — и мать, и дочка.
— Слушай, Леон! — круто обрезал я его при этих словах. — Слушай меня. Вздор это все и бодяга. Поставь себя на место Мадлон и ее матери. Ты, что ли, был бы доволен на их месте? Это как же? Приезжаешь туда чуть ли не босой, положения никакого, целыми днями бесишься, что старуха отбирает у тебя все денежки, и пошло, и поехало… Но вот она убирается, вернее, ты ее убираешь. А ты все выкаблучиваешься и ломаешься. Да поставь же себя на место этих женщин. Это невыносимо! Я, например, такого бы не потерпел. Ты сто раз заслужил, чтобы они тебя посадили, прямо тебе говорю.
Вот как я заговорил с Робинзоном.
— Возможно, — ответил он мне в тон, — но хоть ты доктор, и образованный, и все такое, а ничего в моей натуре не петришь.
— Заткнись, Леон! — цыкнул я, чтобы со всем этим покончить. — Катись ты, ублюдок, со своей натурой! Что ты несешь, словно больной какой? Ох, жаль, что Баритона сейчас к черту на рога унесло, не то бы он за тебя взялся. Запереть в психушку — вот лучшее, что можно для тебя сделать. Слышишь, запереть! Вот Баритон и занялся бы твоей натурой.
— Прошел бы ты через то же, что я, ты бы и сам таким же психом стал, — огрызнулся он. — Ручаюсь, стал бы. А может, еще почище меня. Ты же ведь тряпка!
И тут он начал на меня орать, словно был в своем праве.
Он драл глотку, а я разглядывал его. Я привык, что больные возвышают на меня голос. Меня это не смущало.
Он похудел по сравнению с Тулузой, и к тому же в его лице проступило что-то незнакомое мне, как бывает с портретом, тронутым забвением: черты вроде те же, но потускнели от времени и молчания.
Во всех этих тулузских историях было еще кое-что, не столь, конечно, важное, но такое, чего он никак не мог переварить и при одной мысли об этом наливался желчью. Дело в том, что он был вынужден ни за что ни про что подмазать целую шайку деляг. Он все еще не переварил, что в момент передачи ему подземелья был вынужден направо и налево раздавать комиссионные — кюре, прокатчице стульев в церкви, чиновникам мэрии, еще куче разной публики, и все безрезультатно. Его корежило, как только он заговаривал об этом. Он называл такие порядки воровством.
— Но в конце-то концов вы поженились? — спросил я в заключение.
— Да нет же, кому я сказал? Мне расхотелось.
— А ведь малышка Мадлон была куда как недурна. Разве нет?
— Да не в этом дело.
— Именно в этом. Ты сам говорил: вы оба свободны. Если уж вам так обрыдло в Тулузе, вам никто не мешал на время перепоручить склеп матери. А потом вернулись бы.
— Насчет внешности, тут ты прав, — опять завел он. — Она очень миленькая, согласен. Это ты мне тогда правильно шепнул. Особенно когда зрение у меня восстановилось, и, представляешь, я как нарочно увидел ее в зеркале. Нет, представляешь? При свете! Месяца два прошло, как старуха сверзилась. Я пробовал разглядеть лицо Мадлон, тут зрение разом ко мне и вернулось. Световой удар, так сказать… Ты меня понимаешь?