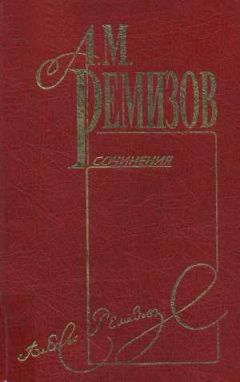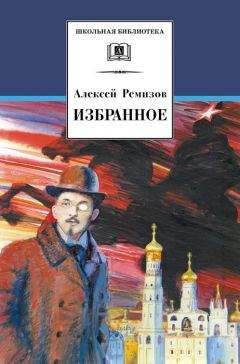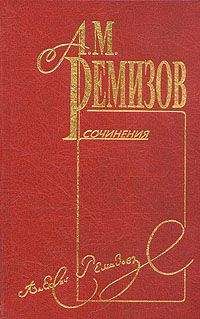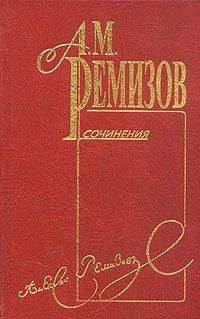Алексей Ремизов - Том 1. Пруд
Он мог уж достать его, когда стал на высокий помост и глянул поверх кишевшей толпы, но палач ударил кулаком по шее, и голова упала на грудь, и замер взгляд, упираясь в страшную, больную точку…
У столба на краю помоста, ударяя себя по бедрам и прихлопывая в ладоши, плясала растерзанная, с оборванной петлей на шее полунагая женщина, а измученное лицо от слез надрывалось, словно все муки вонзились в него, и от боли глаза на лоб выскакивали, и вваливались, как у похолодевшего трупа.
Плясала женщина, ногами притопывала… плясала женщина… мать плясала…
Завертелся Николай на месте, хотел броситься, но в тот же миг будто острый кусок льда со свистом лизнул его шею, и черно-красный большой свет густыми брызгами взметнулся пред глазами, и щемящая сухая боль и что-то до приторности сладкое загрызло где-то в глубине рта, но страшные клещи сдавили череп и поволокли куда-то по вязким неостывшим трупам, по гвоздям через огонь в лед — кромешную тьму… в отчаяние.
Выгоревшая свечка вздыхала голубым тяжелым вздохом.
И в смрадном свете, закусив конец половика, лежал Николай у сбитой кровати, у неподвижного тела Тани, а по стене, как разбитые мельничные крылья, шарахаясь, ходили наливающиеся тени от торчащих затекших ног.
И караулила ночь закрытое окно… поруганное сердце… обманутое…
Запретила она, темная, всем беззвездным шорохам и одиноким стукам врываться и гулять по дому… по дому отчаяния и исступленной жажды.
Погас свет.
И время стало.
XVII
Падали листья последние, красные… Красные зори сгорали. Кутая ватой измученный берег, угрюмый туман восходил над бурлящей рекою.
Пароходы ревели.
Прощальные звуки резали льдистые вздохи.
А кромешное небо ветрено-шумно за хлопьями хлопья бросало на сжатую землю.
Под крышами вьюга металась, — ковала синюю стужу.
И в дыме по звездам луна костяная ходила и улыбалась замогильно-скорбной улыбкой.
Злые туманы…
Листья сорвали, песни задули…
По временам казалось Николаю, он с ума сходит.
Был он весь одной тончайшей струной, и становилась эта струна с часу на час тоньше, и от малейшего прикосновения стонала… Стонала и болела.
Был он весь одним бесконечно живым нервом, и не было пушинки, которая, касаясь, не жгла бы душу, а эти руки… эти руки закручивали узлом обнаженное сплюснутое сердце…
Обычно, как только смеркалось, выходил он на улицу и, пробираясь среди старых домов, шел на безлюдье, в поле.
Если случалось, встречал кого, опускал глаза и сжимался, будто жестокий удар готовился на его голову.
Такими страшными казались люди.
Кое-где фонари зажигали.
Молча, как раздавленная собака, Николай глядел в их седое хилое пламя.
И они говорили:
— Ты помнишь?..
И в ответ гудело сердце, как гудел ветер.
А там, в белом поле, среди пушистых раскинутых снегов во мраке и зелени, темной ночью, лунной. ночью он со стиснутыми зубами и сжатым сердцем не покорно молился, а требовал, настаивал, чтобы оно совершилось.
И казалось, оно совершалось.
Он видел ее, была она такой… неподдельной… лицо, тело, все… являлось ярко, резко и жило живее, будто под вызывающим, долгим поцелуем.
Да, да, да…
Он бежал по людным бульварам, и она бежала, он свертывал в аллеи, и она мелькала по дорожкам, садился, и она сидела на скамейках против, она заглядывала в глаза, он шел, — провожала…
Падал, задыхался от скрытых рыданий — колкие слезы глаза слепили, будто слезы и соль.
И что-то темное охватывало с головы до пят: он вбегал в дом к себе, запирал дверь, задергивал занавески, и сидел, отдыхая во тьме, без огня.
Свету боялся.
Впрочем, тогда боялся всего.
И среди давящей тишины забывался, и в забытьи снились кошмарные сны.
То казалось, будто кто-то на цыпочках входит в комнату, раздевает его донага, уносит одежду и снова входит и медленно, не спеша, принимается за старое: выносит одну вещь за другой. А вещей целая уйма.
А он будто лежит на полу, видит все, и холодно ему, а подняться не может.
Потому подняться не может, что вещей еще так много, а известно, когда тот снесет все, только тогда…
Целая вечность!
И так до рассвета.
Или так: приотворится дверь, и в каком-то странном стрекочущем свете выглянет с лестницы старая-престарая старуха.
Синие ее губы вздрагивают, слезятся гноящиеся глаза, и трясущаяся рука, привычно корчась, тянется за милостыней.
А он упивается злейшей горечью: видит, как эта загнанная бесприютная нищенка опускает пустую руку… Видит, и ничего дать не хочет, не шелохнется.
Нищенка протягивает руку…
И так до рассвета.
И наступал белый день, мучил несносными тягучими часами и в потугах превращался в страшную ночь.
Ночь. Не было на свете ни лица, ни такого предмета, на чем бы глаза успокоить.
Даже дети, эти единственно милые и чистые незабудки… Детские личики казались в зверских стальных намордниках.
И скалили из-за решетки свои молочные острые зубки.
* * *За городом по большой дороге, прикрытая частым леском, раскинулась целая усадьба, посреди которой возвышалось огромное странное здание — сумасшедший дом.
Окна с толстой железной решеткой, окна, унизанные истощенно-ободранными полускелетами, полутелами, и там — понурые лица бритых голов, и сдавленный животный смех, и дьявольская улыбка, обвивающаяся змеей вокруг смертельно белых губ, и остановившийся долгий, изнуряющий взор, и такая открытость, такая беззаботная уверенность, как у ребят малых.
А там, за живой шторой, сладострастный сап и грязь, и распутство, и уличная брань, и тихая молитва, стон горький.
Железная угрюмая дверь и выползающий на волю запах подгнивающего, запертого жилья.
Вялый, увязающий в нерасходящейся мгле, измученный желтоватый свет, и пробитые ступени каменных лестниц, и та чернота коридора, непроглядная, где в пытке задыхающихся желании, замирающих воплей давят, лезут, мнут друг друга слипающиеся тела с этим единым глазом, с этим ртом…
И оргия безумных бредов — остановившийся проклятый смерч.
И страшная, жуткая темь углов, куда уходят и где таятся такие слова сердца, такие думы, загадки и разгадки — сама судьба и жизнь, и смерть…
Звал этот желтый дом, приглашал под свою беспредельную кровлю, мигал своим безумным, бредовым глазом.
Гнал этот желтый дом, стращал своими палатами, где творится что-то странное, отпугивал странностью, тайной, ведь человеку хочется такого, чтобы не бояться, не тревожиться, — покою…
XVIII
Вьюжный день свистел за дверью и засыпал окна.
В переполненной приемной жутко горела неяркая лампочка.
Только что привезли больного.
Налитые кровью глаза с подбитыми черными подглазницами, пережегшие всю ярость и боль затравленного насмерть зверя, выпирались неумолимым и безответным вопросом. А длинная рыжая борода, изодранная в клочья и примерзшая к тулупу, торчала сухою паклей.
И не было живого места на теле.
Перерезанные веревками руки, красно-водянистые лепешки отмороженных ушей, багровые подтеки и ссадины на лбу, перегрызенные запекшиеся губы и неимоверно худые, бледные пальцы.
Мелкими мурашками разбегался озноб по его телу и, собираясь в огромный муравейник, колотил кулаком по шее и подкашивал ноги…
И взоры всех к нему обращались и, казалось, это в нем вьюга выла.
Пришел, наконец, доктор, и публику из приемной удалили.
Чуть внятно доносились теперь распоряжения и опросы, да в валенках служитель шмыгал со связкою ключей, как тюремный надзиратель.
Николай толкался у дверей, ждал, когда поведут больного.
Вдруг нечеловеческий крик прорезал стену и отточенной бритвой хватил по мозгу.
В приемной поднялся шум и возня.
Трое служителей пробежали мимо, шмыгая валенками.
Сгорбившись, вышли два городовых.
— Не полагается! — сказал один, — не полагается тут: уходите!
Николай вспомнил, что ему назначили придти и именно в этот час: доктор назначил — и он не тронулся.
Вдруг обрадовался: Господи, Павлушкин!
Веснушчатый плюгавый человек в огромной ушанке с болтающимися концами пронырливо выглянул из чуть приотворенной двери.
Увидел Николая, униженно закивал головой.
И вспомнилось Николаю, как однажды он вышвырнул это жалкое тельце «наблюдающего». Это было в один из таких, закрытых снегом дней, когда такая скука… и ему стало скучно.
Павлушкин принялся рассказывать: больного везли из уезда без передышки пять суток, больше тысячи верст отмахали в пургу, в метель, перекидывали с санок на санки, — торопились поспеть к празднику. Очень неспокойный, бунтовался, две рубахи на себе разодрал, уряднику самоваром голову прошиб.