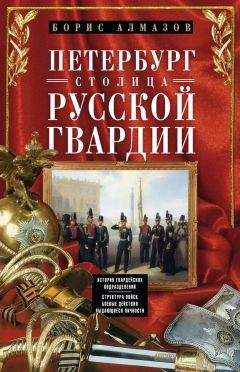Чарльз Диккенс - Рождественские повести
— Никогда в жизни я не была так растрогана, как нынче утром, — сказала она, утирая глаза. — Я должна вам сейчас же все рассказать. Приходит на рассвете мистер Редлоу и просит меня пойти с ним к больному брату Уильяма Джорджу, да так ласково просит, точно я — не я, а его любимая дочь. Мы пошли, и всю дорогу он был такой добрый, такой кроткий и, видно, так на меня надеялся, что я поневоле всплакнула, до того мне стало приятно. Пришли мы в тот дом, а в дверях нам повстречалась какая-то женщина (вся в синяках, бедная, видно, кто-то ее прибил); иду я мимо, а она схватила меня за руку и говорит: "Да благословит вас бог".
— Хорошо сказано! — заметил мистер Тетерби. И миссис Тетерби подтвердила, что это хорошо сказано, и все дети закричали, что это хорошо сказано.
— Мало того, — продолжала Милли. — Поднялись мы по лестнице, входим в комнату, а больной уже сколько времени не шевелился и ни слова не говорил, и вдруг он поднимается на постели и плачет, и протягивает ко мне руки, и говорит, что он вел дурную жизнь, но теперь от всего сердца раскаивается, и скорбит об этом, и так ясно понимает греховность своего прошлого, как будто, наконец, рассеялась черная туча, застилавшая ему глаза, и умоляет меня попросить несчастного старика отца, чтобы тот простил его и благословил, а я чтобы прочитала над ним молитву. Стала я читать молитву, а мистер Редлоу подхватил, да как горячо, а потом уж так меня благодарил, так благодарил, и бога благодарил, что сердце мое переполнилось и я бы, наверно, расплакалась, да больной просил меня посидеть возле него, и тут уж, конечно, я с собой совладала. Я сидела с ним, и он все держал меня за руку, пока не уснул; тогда я тихонько отняла руку и встала (мистер Редлоу непременно хотел, чтобы я поскорее пошла к вам), а Джордж и во сне стал искать мою руку, так что пришлось кому-то сесть на мое место, чтоб он думал, будто это опять я взяла его за руку. О господи! — всхлипнула Милли. — Я так счастлива, так благодарна за все это, да и как же иначе!
Пока она рассказывала, в дверях появился Редлоу; он остановился на мгновенье, поглядел на Милли, тесно окруженную всем семейством Тетерби, и молча поднялся по лестнице. Вскоре он опять вышел на площадку, а молодой студент, опередив его, бегом сбежал вниз.
— Добрая моя нянюшка, самая лучшая, самая милосердная на свете! сказал он, опускаясь на колени перед Милли и взяв ее за руку. — Простите мне мою черную неблагодарность!
— О господи, господи! — простодушно воскликнула Милли. — Вот и еще один. И этот меня любит. Да чем же мне всех вас отблагодарить!
Так просто, бесхитростно она это сказала и потом, закрыв лицо руками, заплакала от счастья, что нельзя было не умиляться и не радоваться, на нее глядя.
— Не знаю, что на меня нашло, — продолжал студент. — Точно бес в меня вселился… может быть, это от болезни… я был безумен. Но теперь я в своем уме. Я вот сейчас говорю — и с каждым словом прихожу в себя. Я услыхал, как дети выкрикивают ваше имя, и от одного этого разум мой прояснился. Нет, не плачьте, Милли, дорогая! Если бы только вы могли читать в моем сердце, если б вы знали, как оно переполнено благодарностью, и любовью, и уважением, вы не стали бы плакать передо мною. Это такой горький упрек мне!
— Нет, нет, — возразила Милли. — Это совсем не упрек! Ничего такого! Я плачу от радости. Даже удивительно, что вы вздумали просить у меня прощенья за такую малость, а все-таки мне приятно.
— И вы опять будете меня навещать? И закончите ту занавеску?
— Нет, — сказала Милли, утирая глаза, и покачала головой. — Теперь вам больше не понадобится мое шитье.
— Значит, вы меня не простили? Она отвела его в сторону и шепнула:
— Пришла весточка из ваших родных краев, мистер Эдмонд.
— Как? Что такое?
— Может, оттого, что вы совсем не писали, пока вам было очень худо, или, когда стало получше, все-таки почерк ваш переменился, но только дома заподозрили правду; как бы там ни было… но только скажите, не повредят вам вести, если они не дурные?
— Конечно, нет.
— Так вот, к вам кто-то приехал! — сказала Милли.
— Матушка? — спросил студент и невольно оглянулся на Редлоу, который уже сошел с лестницы.
— Тсс! Нет, не она.
— Больше некому.
— Ах, вот как! — сказала Милли. — Уж будто некому?
— Но это не… — он не успел договорить, Милли закрыла ему рот рукой.
— Да, да! — сказала она. — Одна молоденькая мисс (она очень похожа на тот маленький портрет, мистер Эдмонд, только еще краше) так о вас тревожилась, что не знала ни минуты покоя, и вчера вечером она приехала вместе со своей служанкой. Вы на своих письмах всегда ставили адрес колледжа, вот она и приехала туда; я нынче утром ее увидала, еще прежде, чем мистера Редлоу. И она тоже меня любит, — прибавила Милли. — О господи, и она тоже!
— Сегодня утром! Где же она сейчас?
— А сейчас, — шепнула Милли ему в самое ухо, — она сидит у нас в сторожке, в моей маленькой гостиной, и ждет вас.
Здмонд крепко стиснул ее руку и готов был сейчас же бежать, но она остановила его.
— Мистер Редлоу так переменился — он сказал мне нынче поутру, что потерял память. Будьте к нему повнимательней, мистер Эдмонд. Все мы должны быть к нему внимательны, он в этом очень нуждается.
Молодой человек взглядом уверил Милли, что ее предупреждение не пропало даром; и, проходя мимо Ученого к дверям, почтительно и приветливо поклонился.
Редлоу ответил поклоном, исполненным учтивости и даже смирения, и посмотрел вслед студенту. Потом склонился головою на руку, словно пытаясь пробудить в себе что-то утраченное. Но оно исчезло безвозвратно.
Перемена, совершившаяся в нем под влиянием музыки и нового появления Призрака, заключалась в том, что теперь он постоянно и глубоко чувствовал, сколь велика его утрата, и сожалел о ней, и ясно видел, как непохож он стал на всех вокруг. От этого ожил в нем интерес к окружающим и родилось смутное покорное сознание своей беды, подобное тому, какое возникает у иных людей, чей разум ослабел с годами, но сердце не очерствело и к чьим старческим немощам не прибавилось угрюмое равнодушие.
Он сознавал, что, пока он все больше искупает благодаря Милли зло, им причиненное, с каждым часом, который он проводит в ее обществе, все глубже утверждаются в нем эти новые чувства. Поэтому, а также потому, что Милли будила бесконечную нежность в его душе (хоть он и не питал надежды на исцеленье), Редлоу чувствовал, что всецело зависит от нее и что она — опора ему в постигшем его несчастье.
И когда Милли спросила, не пора ли им уже воротиться домой, к Уильяму и старику Филиппу, он с готовностью согласился — его и самого тревожила мысль о них, — взял ее под руку и пошел с нею рядом; глядя на него, трудно было поверить, что он — мудрый и ученый человек, для которого все загадки природы — открытая книга, а она — простая, необразованная женщина; казалось, роли их переменились и он не знает ничего, она же — все.
Когда они вдвоем выходили из дома Тетерби, Редлоу видел, как теснились и ластились к ней дети, слышал их звонкий смех и веселые голоса; видел вокруг сияющие детские лица, точно цветы; на глазах у него родители этих детей снова обрели довольство и любовь. Он всем сердцем ощутил простоту и безыскусственность, которой дышало все в этом бедном доме, куда вновь вернулось спокойствие; он думал о том пагубном недуге, который внес он в эту семью и который, не будь Милли, мог бы распространиться и тлетворным ядом отравить все и вся; и, быть может, не следует удивляться тому, что он покорно шел с нею рядом и крепко прижимал к себе ее нежную руку.
Когда они вошли в сторожку, старик Филипп сидел в своем кресле у огня, неподвижным взглядом уставясь в пол, а Уильям, прислонясь к камину с другой стороны, не сводил глаз с отца. Едва Милли появилась в дверях, оба вздрогнули и обернулись к ней, и тотчас лица их просияли.
— О господи, господи, и они тоже мне рады! — воскликнула Милли, остановилась и ликуя захлопала в ладоши. — Вот и еще двое!
Рады ей! Слово «радость» слишком слабо, чтобы выразить то, что они чувствовали. Милли бросилась в объятия мужа, раскрытые ей навстречу, склонила голову ему на плечо, и он был бы счастлив весь этот короткий зимний день не отпускать ее ни на минуту. Но и старик свекор не мог обойтись без нее. Он тоже протянул руки и в свою очередь заключил ее в объятия.
— Где же это столько времени пропадала моя тихая Мышка? — спросил он. Ее так долго не было! А я никак не могу без моей Мышки. Я… где сын мой Уильям? Я, кажется, спал, Уильям.
— Вот и я говорю, батюшка, — подхватил сын. — Мне, знаете ли, приснился ужасно нехороший сон. Как вы себя чувствуете, батюшка? Здоровы ли вы нынче?
— Да я молодцом, сынок.
Приятно было видеть, как мистер Уильям пожимал отцу руку, и похлопывал его по спине, и гладил по плечу, всячески стараясь выказать ему внимание.